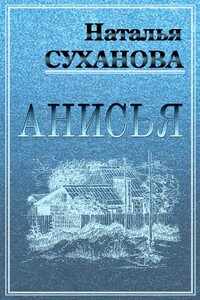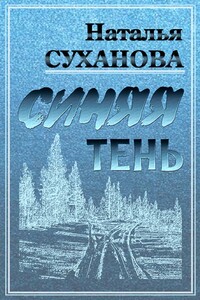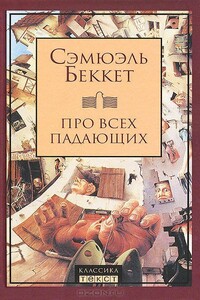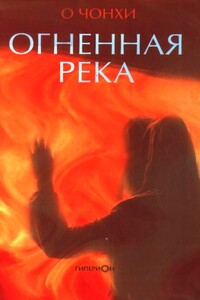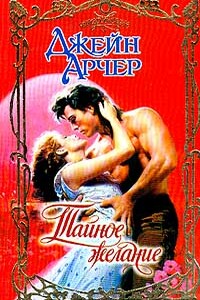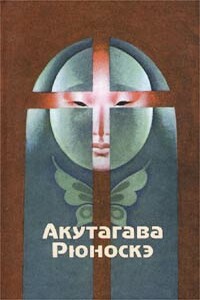Как, собственно, даются названия посёлкам и городам… Сами по себе такие только что начинающие жить поселения как бы и не имеют личных особенностей — они при чём-то, возле чего-то: Озерища — у Озёр, Петрозаводск — к заводу прилепился, Дивное — не такое, может, и дивное, но имя как бы на счастье — пусть будет дивным. Имя тому курортному городку, где ты родился и жил в детстве, было Угорск — то есть у горы. Некий опознавательный знак, видный издалека. Сколько ты себя помнишь — из окна, с улицы ли, со двора ли ты видел гору. Она так и называлась: Гора. Просто Гора, без каких-либо обозначений: не острая, не тупая, не скалистая, не двугорбая, ни ещё какая-нибудь. Гора — и Гора. Не то чтобы очень высока, но и не впаяна ни в какой хребет — сама по себе, локалит, как называют такие горы, лесистая, хотя и не сплошь — с каменистыми проплешинами. Подальше, хотя и не сливаясь с нею, были и другие такие же горы, и связывало их только лесистое одеяло, кое-где сползшее, обнажившее прихотливые их тела.
Сама Гора вопросов как бы и не вызывала, зато нечто за Горой было загадочно, неведомо, тайно.
Мальчиком ты был домашним, далеко от дома не отходил, поэтому день, когда тебя повели впервые вокруг горы, очень запомнил, собственно, даже не день, а само это — Вокруг Горы. «Вокруг Горы» — так это и называлось, а ещё по-курортному — «Маршрут №3». Так тебе и обещано было: «Пойдем Вокруг Горы» — ещё за несколько дней до того, как сошёл ты с городской улицы, с асфальта на землистую, присыпанную песком дорогу.
Сама-то Гора при этом как раз исчезла. И не было этого «вокруг». Пространственная геометрия была тебе ещё неведома, но «вокруг» ты уже понимал. Как вы крутились с Лилей вокруг столба у дома: кайф, дыхание, бег, голова кружится, пьянеешь, хохочешь, шатаешься. Здесь не было этого «вокруг», дорога шла прямо, и её, эту дорогу, срезала впереди пустота, воздух. Черта.
Похоже на давний, частый твой сон. Черта. В том сне ты поднимался вверх по пологой дороге средь красных камней и гор. Ты шёл вверх, и, сколько хватало взгляда, вокруг были красные горы. Никогда наяву ты не видел таких красных камней и гор. Там не было никого, кроме тебя. Ты слышал только дыхание. И что-то вроде песни — чей-то голос, больше похожий на голос самих гор, самого воздуха, самих камней. Только звук дыхания и голос прерывистый. Ты не знал, откуда и чей это голос, ты даже не знал, один это голос или их много — тихих, как возлетащие паутинки голосов. А потом снова только дыхание. Может, твоё собственное, во сне. И уже и голоса не слышно. Красные камни. И черта перевала, к которому ты идёшь. Но ты так никогда и не доходил до этой черты — каждый раз ты просыпался, когда черта была уже совсем близко.
Сейчас, наяву, вы шли по дороге, и взрослые говорили и смеялись, раздражая тебя. Ты был возбуждён, растревожен, боялся пропустить.
Ещё вначале, едва вы вошли в большую тень Горы, ты ощутил: здесь по-другому, не так, как в городе. Но есть ли здесь То? И секундно, торопливо, раздражённо, без слов: нет, не так, не то, что в городе, но и этого нет. Ведь и во сне красные камни были ещё не То — они были только знаком, предупреждением: уже здесь всё не так, но главное откроется там, на черте.
А через минуту ты был уже убеждён, что ничего особенного здесь вообще нет. Прохладно, душисто, тенисто, отгорожено от жары, но ведь и в городе в некоторых местах так же. Здесь птицы — но ведь и там же. Человечьи, жилые звуки сместились, правда, куда-то в долину, влево от Горы и дороги вокруг неё, но и они слышны: железо и уханье об него, машинные, мотористые звуки. Сумятица деревьев, мешанина зелени — всё это было знакомо.
Ты торопился к черте впереди. Именно впереди. Сбоку, слева и справа была всё та же листва, ощущаемая как масса, как теснота, как заграждение взгляду. Там, впереди, должно было что-то открыться.
Во сне черта была сверху, здесь — впереди. Там идти было вязко, замедленно, но черта ждала тебя. Здесь же она ускользала. Сколько ты ни забегал вперёд — края, среза всё не было: черта ускользала, она опять была впереди.
Так догоняешь девочку, а она увёртывается, бежит влево и вправо, вскрикивает, хохочет. Ты разозлился, не хочешь больше за ней бежать, лучше отвернуться, не обращать на неё внимания — и она вдруг дотрагивается до твоего плеча. Не торопись оборачиваться — она опять ударит о тебя дурным своим смехом.
И вот она никуда не бежит, стоит подле тебя, отдувая сбоку с лица влажную прядь, и глаза её оказываются не ровно голубыми, а будто с веснушками, с жёлтыми пятнышками, и они уже не цвет, а свет, они прозрачны, её глаза, пронизаны светом, и золотисты реснички, и волосы тоже золотые, и мелкие-мелкие капельки на носу, на верхней губе, на лбу.
Однако чуть позже опять досада: всё это, такое необыкновенное, твоя поражённость и нежность через некоторое время, когда ты вспоминаешь, уже ослабели. Нужно опять бегать за этой девочкой и поворачивать её к свету, но всё равно уже не то. Лучше не вспоминать — как вроде и не было, — а это ужасно, как выбросить любимую игрушку. Лишь выбросишь, уже невозвратна она, и мама не может понять, зачем ты выбрасываешь. «Почему ты такой злой, мой мальчик? Зачем ты ударил Лилю? Зачем ты топчешь кита?»