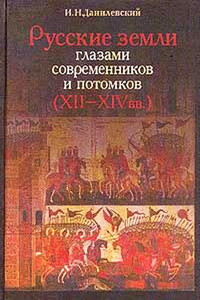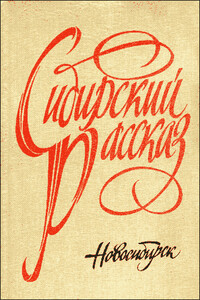БОРИС МИКУЛИЧ
СТОЙКОСТЬ
Давайте перемолвим
безмолвье синих молний,
давайте снова новое
любить начнем...
Чтоб жизнь опять сначала,
как море, закачала.
Давай! Давай!
Давай начнем!
Николай Асеев
ПРОЛОГ
Еще не утихли отголоски стрельбы, еще в глубине страны блуждали разбитые банды, еще на карте ее были обозначены фронтовые рубежи, а улицы столицы уже вскипали радостной и бурной жизнью, улицы заливал говорливый и веселый народ, вдруг ощутивший острую жажду жизни, наполненной мирным трудом, полетом мысли, любовью.
Мощным потоком красок и движения, гула и переклички встретила в ту пору Бориса Кравченко столица. Уставший от тяжелой, суровой работы на фронте, от долгой и беспорядочной дороги почти через всю страну, от приступов лихорадки, он с каким-то мальчишеским задором, с непреодолимой жадностью к новым впечатлениям, свойственной молодым, окунулся в водоворот улиц столичного города.
Свой чемодан он оставил на Тасиной квартире. Зайдя туда, Тасю он не застал, а чернявая соседка, окинув взглядом его поношенную шинель, сказала:
— Вашкевич на работе, придет поздно. Чемодан можете оставить, если больше негде...
И вот он очутился в уличном водовороте столицы. Внимание его ежеминутно переключалось то на новых людей, то на незнакомые здания, то на витрины магазинов. Все было необычно для него в этом городе. Он брел с одной улицы на другую, наслаждаясь свободой, и лишь одна мысль не давала ему покоя — чтобы болезнь, порою кружившая голову, не свалила его внезапно. И перед ним возникало пережитое...
...Тогда в обледенелой, заснеженной и объятой ветрами степи, казалось, горизонт исчез, вокруг — насколько хватало глаз — снег, снег... И кричал Кравченко изо всех сил, во весь голос, и не слышал эха, хотя бы слабенького эха,— ветер, ветер, ветер... И сказал товарищ Грай: «Пробиться! Мы должны пробиться!» — и вот напряжены мышцы, сжаты зубы, да на пределе работает мозг, и стучит в жилах кровь, горячая, живая кровь...
Чтобы отдохнуть, он, привлеченный большой очередью возле кассы, решил зайти в театр. Идти снова к Тасе на квартиру не имело смысла, она вернется поздно. И вот уже с билетом в руке он оказался в фойе, и только тут заинтересовался программой: «На что же я попал?»
Нарядная зеркальная дверь бросала в сторону Кравченко десятки его отражений, толпа множилась в этих зеркалах,— казалось, что движется толпа на толпу, кричит, машет руками и вот-вот образуется затор.
Но затора не было.
Кравченко вскоре освоился, а, глянув на себя в одно из зеркал, нашел, что шинель его не такая уж и старая, правда, помялась изрядно в вагоне, нужно было бы скатать, тогда б разгладилась.
Трижды гасли и вспыхивали вновь огромные жирандоли — и трижды вспыхивала на потолке яркая радуга. Увлеченный людским потоком, Кравченко попал в концертный зал. Отыскать место помогла молодая тоненькая билетерша, и, усевшись, Кравченко принялся читать программу.
Первое отделение концерта состояло из разных сольных музыкальных и вокальных номеров, а под надписью «Второе отделение» был обозначен всего один номер: Эльга Райх и Станислав Даленго, артисты Государственного академического театра оперы и балета.
И, прочитав это, Кравченко вспомнил, что видел повсюду на улицах, проезжая трамваем с вокзала, большие афиши с двумя скупыми именами: Эльга Райх и Станислав Даленго. В немногословности этих афиш был определенный смысл: город знал, чьи имена значатся на афише, город из вечера в вечер плыл толпами в огромный концертный зал, чтобы восторженно впиваться глазами в фигуры этих двух артистов, а потом осыпать их цветами и рукоплесканиями.
Пока длилось первое отделение, в зале были слышны гомон, шорох шагов, время от времени прокатывался смех: чувствовалось, что люди пришли сюда для того, чтоб все свое внимание отдать второму отделению; ясно было, что его — и только его — ждали в зале.
После антракта в зале воцарилась торжественная тишина. Кравченко почувствовал в ней дыхание жадного интереса и, сам того не замечая, поддался общему настроению, власти предстоящего празднества.
И, в самом деле, это было праздником.
Погас свет. Ярко вспыхнула рампа. Бархатный занавес переливался таинственными оттенками. Дирижер возник за пультом, вытянул правую руку, как бы вбирая в нее все внимание собравшихся в зале. Взмах руки — и гром, и могучий взлет звуков, и конвульсия занавеса, и глубокий единодушный вздох всего зала, и две фигуры, легкие и сказочные... две фигуры с поэтическими именами — Райх... Даленго.
Да, это был хмель искусства, торжество музыки и движения, ставшее понятным всем присутствующим красноречие мимики и пластики тренированного тела. Но вот сказочные фигуры исчезли, и зал неистовствует в крике и овациях. Тогда появляется традиционный конферансье:
— «В белом плену». Импровизация Станислава Даленго...
На этот раз не было никакой сказочной фигуры, только что возникавшей перед взором зала. Это не чарующий полет тренированного тела. Вот он — обыкновенный красноармеец. Он попал в плен. Ему нужно спастись. Он хитрит. Он танцует перед теми, кто взял его в плен. Они пьянеют от танца, еще минута — и пленный победит.