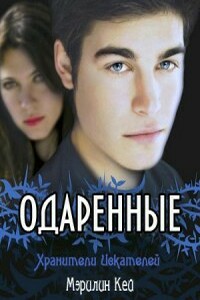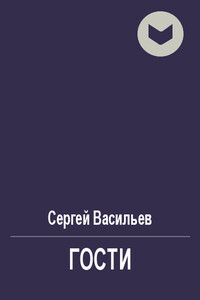Сапоги сохли на палках, из голенищ желтой струйкой стекала вода. Еще долго!
После людей на войне больше всего страдает обувь. Я представил свои сапоги черными новыми.
Раньше такую пару купил бы зажиточный крестьянин или лавочник. Но эти носил монгольский капитан. Наверное, спёр где-нибудь. Откуда ж еще у него наше обмундирование?!
Потом дед Матвей забрал сапоги себе. Теперь они у меня.
Здесь обувь часто меняла хозяев, от убитого к еще живому. И дальше по кругу, оставляя за собой в основном только смерти. Но иногда продлевая жизни. Защищая от холода и осколков, давая возможность быстро бегать. Убегать! Здесь это главное.
– Не к добру это, не к добру… – Дед Матвей чиркнул зажигалкой, прикурив второй раз. – А ты чего это, Кинстинтин, наждаком пальцы скоблишь? Каталой решил заделаться? Нам это, брат, сейчас не до картежничества, ноги живыми бы унесть.
Я пытался отчистить пальцы от коросты. Каучуковая смола цепкая, лучше любого клея.
– Каталой[1]? – не понял я. – А! Это я вчера Будду склеивал, фигурку глиняную. Вот пальцы и измазал.
– Чего? Кого-кого?
Наверху послышался громкий вой Бэки, студебекера[2] – «дрык-ды-рык-рык-рык-кккк» – и лязгающий механический скрежет.
– Неспокойный щегол! Епть! Говорил же ему! Пока до песка не откопаем, никаким дрыгателем эту колымагу не вытащить. Теперь опять чинить по колено в болоте. Чтоб его! Своим пролетарским блядством всех ужо замотал! – За пару дней дед Матвей несколько раз перебирал и ремонтировал сцепление. – Чтоб его… Ша-по-ва-лов, хрен моржовый, – и он вынырнул из блиндажа, посыпав с тлеющей самокрутки несколько крупных искр.
Дед Матвей всегда звал меня Кинстинтином. Никогда по фамилии или хотя бы Константином, Костей. Тем более не говорил «товарищ лейтенант». Для него звания ничего не значили, как и другие условности. Он различал только «прав» и «не прав». Остальное, как любил говорить дед Матвей, от лукавого. За это его любили и еще больше уважали.
Уже несколько дней десяток солдат расталкивали и вытягивали грузовик из болотистого оврага. Только все бесполезно! Теперь еще Шаповалов, со своим бестолковым упорством!
Надо идти за дедом Матвеем.
Я снял один сапог с палки, подержал. Да… глины килограмма два. Все лучше, чем в онучах, как новобранцы. Завхоз-то не выдает ничего, кроме кусков старого ватника да бечевки. Делай сам обувь как хочешь. Хотя в этом есть какая-то правда жизненная. Если солдат не может смастерить себе обувь, достать пропитание, какой же он солдат? Почти ж ничего не осталось из обмундирования после пяти лет войны с Германией. Теперь эта вот, на Востоке. Говорят, потом будет еще. Другая, больше прежних.
– Кинстинтин, твою мать! – раздался сверху бас деда Матвея.
– Бегу, бегу… дед Матвей, подождите!
– Хорош выкать мне, курсант. И без этих твоих буржуйских «пожалуйте, соблаговолите принять». Знаем! Ужо перерезали вас всех, кровопивцев!
Я хотел что-то возразить, но не стал. Ведь верно так! Как бы мы ни думали по-другому, кровопийцы и есть. Как завхоз. Он ведь почему сапоги не выдает? Потому что бережет на особый случай. А ну как подводы не придут месяц, а то и год? В начале войны так и было! И что тогда? Вот и станем кожаные голенища варить да из котелков хлебать. Все лучше, чем крыс, собак.
В памяти всплыло воспоминание о доброй и пушистой Норе соседа Степана. Я постарался сразу забыть, затолкать его куда подальше…
Неужели все это дано выдержать человеку? Вчера, когда склеивал фигурку Сатиты[3], думал об этом. Зачем, по каким причинам все эти испытания? Неужели и правда душа должна намучиться, истерзаться, прежде чем из нее свет польется? Как сок березовый из прорези, как фигурка получает образ после резца. Намучить, выкрутить, разрезать, измолоть… и вот он, сок… вот, когда искру из себя можно высечь!
– Ты чего?! Без царя в голове совсем?! – орал дед Матвей на Шаповалова.
– Чего, Матвей? Чего? Вот чего ты на меня орешь? – Шаповалов стоял по колено в густой глине. – Мы как? Зимовать здесь будем?! А?! Или хочешь, чтоб я государственное орудие вот так бросил? А? Ты… это… что, с этими, растратчиками?.. – Шаповалов осекся, понял, что перегнул.
– А ну тебя… Слышь, Кинстинтин, дорогой, ты же там в своих университетах учился. Давай, скажи деревенщине, как нам этот фаэтон[4] отсюда достать, – и дед Матвей бросил на меня строгий орлиный взгляд из-под кустистых бровей, больше похожих на перья птицы, чем на человеческие волосы.
– Не знаю, дед Матвей. Мы можем только толкать. Надо бы еще тянуть. Толкать не получается…
Бэка застряла на подъеме, выезжать надо было в том же направлении. Если б в сторону спуска, то еще толкнуть посильнее можно. А на подъеме-то… как толкнешь? Вот и сидели уже пятый день, копали. Только куда копать? Все одно – болото внизу.