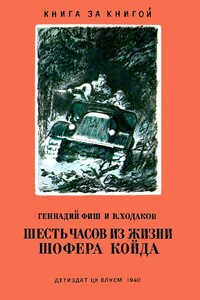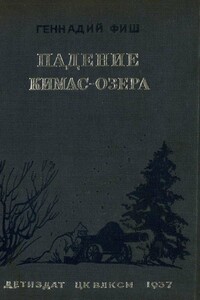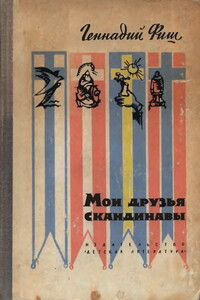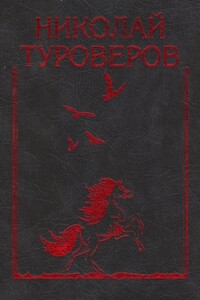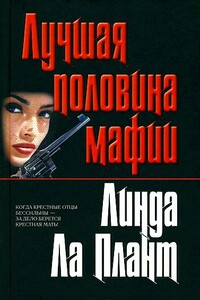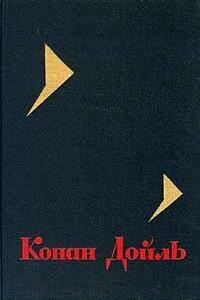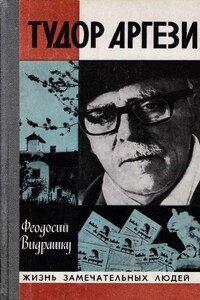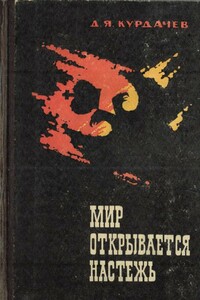До замужества жизнь Эльвиры протекала спокойно и благополучно.
Отец любил ее больше других своих детей, таких же розовых, таких же голубоглазых и белокурых, как Эльвира.
Эльвира была балованной дочерью. Она три года ходила в школу, но, когда учитель сказал, что на конфирмации она будет первой, отец решил — хватит, и взял ее домой.
Дома было много работы. В хозяйстве — одиннадцать коров, сто пятьдесят оленей, две лошади.
Эльвира доила коров, ухаживала за ягнятами, огромными старинными ножницами стригла овец — они жалобно блеяли: «Мэ, мэ!» Ноги им связывала старшая сестра Эльвиры — Хелли. Эльвире становилось их жалко, и она прикладывалась своим розовым вздернутым носиком к влажным овечьим носам.
Эльвира убирала горницы, смахивала пыль с лавок, стоящих вдоль стен, с высоких полок. Зимою семья по вечерам собиралась в одну горницу, женщины пряли нитки из теплой овечьей шерсти.
В таком большом хозяйстве нужен был батрак. И в ту зиму к отцу поступил Олави.
С топором и пилою он шел на север, чтобы наняться лесорубом-вальщиком. По дороге Олави заглянул в избу, где суетилась у плиты Эльвира, готовя кофе, и попросил напиться. От кофе подымался вкусный пар.
Старику понравился сильный над вид парень, статный и скромный, и он сказал:
— Зачем тебе идти дальше? Оставайся у меня.
Олави вспомнил лесные шалаши, в которых он прожил шесть зим, и насекомых, и еду всухомятку, и то, как щепкой выбило глаз приятелю (поэтому-то Олави шел сейчас один).
У Эльвиры от горячей плиты раскраснелись щеки — ей только что исполнилось шестнадцать лет, а Олави было двадцать два года, — и он остался.
Рано утром, когда Эльвира доила корову и напевала, в хлев вошел Олави — он уже второй месяц работал у отца — и сказал ей:
— Через два дня вечером гулянье в деревне, и ты будешь в хороводах выбирать только меня.
— Ладно, — не подумав даже, ответила она.
— И еще, Эльвира: ты будешь моей женой.
— Ладно, — повторила она, и от радости ей показалось, что она летит.
Парни затеяли праздник на славу. Но во всей деревне гармонь была только у отца Эльвиры, и он давал ее на вечер за шесть марок; это немало, но без гармони нельзя танцевать, а без танцев нет вечеринки, в деревне же среди парней много отличных гармонистов.
…Уже были морозы, и снег, и звездные ночи.
Третий год шла война.
У Каллио в Америке жила тетка, в Канаде где-то. Она его звала к себе — хорошие лесорубы в Канаде нужны, — и он уже совсем собрался ехать, когда появились вдруг эти германские подводные лодки и стали топить пассажирские корабли.
Отец Каллио уехал в Америку, когда мальчику было всего полтора года, и вскоре там его насмерть придавила сосна. Мать с тремя малыми ребятами осталась батрачкой на всю свою невеселую жизнь.
Каллио, узнав про подводные лодки, не поехал в Америку, а решил идти на север Финляндии рубить леса акционерного общества «Кеми». Он уходил завтра, и оставить такое событие без вечеринки было невозможно.
Уже откладывали девушки кто кусок масла, кто муку, а кто и курицу; уже таинственно пощелкивал пальцами у горла Лейно, давая знать посвященным, что дело без спиртного не обойдется. А гармони не было. Тогда парни обратились к Олави:
— Старик хвастал, что ты у него хороший работник. Попытай, может, он тебе уступит.
Олави пошел наверх к хозяину. Старик читал у окна Библию. Олави смахнул снег с каблуков и носков своих кеньг, подошел к старику, сел напротив. Старик продолжал сосредоточенно читать.
Олави медленно стал набивать трубку. Торопиться было некуда. Субботний день кончался за деревней в голубом снегу. И так Олави сидел, пока совсем не стемнело. Старик оторвал от Библии утомленные глаза.
— Засвети лампу, Олави.
Олави встал, но не пошел зажигать свет, а сказал:
— Отец, завтра у ребят гулянье. Дай им гармонь, они не испортят.
Условия старика были неизменны:
— Шесть марок не так много для тех, у кого есть время гулять, а гармонь мне тоже не даром далась.
Тогда Олави подошел еще ближе к старику и медленно, тихо спросил:
— Ты говорил, что я хороший работник?
— Да, на тебя я не жаловался.
— Отдай за меня младшую дочь.
Они оба замолчали. А Эльвира стояла на пороге и про себя тихо-тихо, чуть шевеля губами, молилась.
Помолчав минут пять, старик начал смеяться, и чем веселее смеялся старик, тем мрачнее становился Олави, и наконец он в сердцах повернулся и вышел из горницы.
На пороге никого уже не было.
А старик все смеялся. Потом крикнул Эльвиру, чтобы зажечь свет, — было уже совсем темно.
Она была в конюшне, когда услышала зов отца, поцеловала жеребенка в розовые замшевые губы, сказала: «Прощай, Укко», — и побежала наверх.
Парни достали нужное количество марок, и Олави принес гармонь в избу, где собирались на гулянье. Веселились отменно: водили хороводы, выбирали себе милых, пели песни, которые пастор петь не велит, пили барду, которую ленсман варить не позволяет.
Всем было очень весело.
Потом парни пошли по улице, горланили и стучали в окна к тем девушкам, которых на гулянку не пустили. В одной избе открылось окошко, девушка крикнула:
— Матти, иди сюда!
Матти вошел в дом и был там одну, две, три минуты.