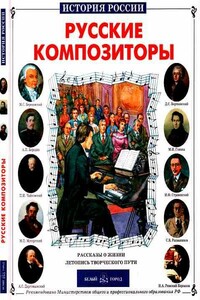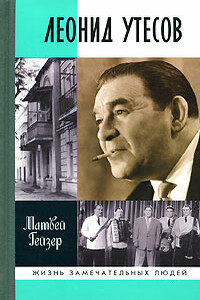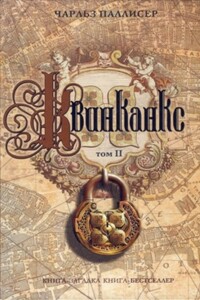Незадолго до еврейского Нового года Алексей Поляков встретил на выбеленной солнцем иерусалимской улице свою давнюю московскую приятельницу Таню Лидерман.
Удивились. Обнялись. Расцеловались.
— Ты как? — осторожно спросил ее.
— О! У меня все бэсэдэр! — пылко воскликнула она. — А ты как и что?
— Я живу в поселении Кохания.
— Ой, бедненький… — вплеснула Таня руками. — Там же одни хасиды!..
— Тоже люди, — неуверенно ответил Алексей.
— Религиозным стал, — посочувствовала она. — Ты один?
— Я всегда один.
— Пригласи меня в гости.
— Заезжай. Поговорим о литературе.
— Дорогу оплатишь?
— Обратную — оплачу.
На шаббат она приехала к нему последним рейсом. И едва переступив порог, скинула и без того невесомое платье.
— Позагораем?!
— Не надо, здесь не принято…
— А ведь был образованный человек… — вздохнула она.
— Надо же как-то жить, — развел он руками.
Она легла на его топчан.
— Ты обещал литературу! — И дерзко посмотрела в глаза. Губы ее нервно подрагивали.
Как же она умудряется оставаться здесь такой белой?..
Алексей знал много чужих стихов. Свои, сожженные, читать не любил.
— Хорошо, — сказал он. — Вот послушай. Наш земляк, Семен Гринберг. «На лавке близнецы считали до десьти, / Один из них все время ошибался. / Солдат сидел напротив и смеялся, / Не в силах глаз от мамы отвести. / Она ему показывала пальцем / На эфиопов с голосами травести. / И я прислушивался и пытался / Часы на час назад перевести. / И перевел, но день не удлинил. / По улице неспешно уходил / Знакомый лапсердак. / И я пошел по Яффо, / И шел за ним почти до банка — Леуми —, / Когда последний раз его мелькнула шляпа / Меж вразнобой одетыми людьми».
В прошлой жизни Таня была учительницей русского языка, считала себя филологом.
— Провинциальная экзистенция, — небрежно бросила она. И прибавила: — Грустно.
Улыбаясь, с ленцой растерла якобы затекшую ногу… Пора было прекращать, пока не началось.
— Я тебе еще в Москве говорил, чтоб ты не пыталась затащить меня в постель.
— Я не пытаюсь…
— А что же ты делаешь?!
— Слушаю стихи.
— Тогда слушай, а не болтай.
— Я не за этим двадцать шекелей потратила на дорогу! — возмутилась она.
— Как же угодить тебе?
— Делай что-нибудь, а не разглагольствуй! — пристально глядя на него, велела она.
— Что? — равнодушно удивился он.
— Ну, возьми меня, например!
— Зачем? — Он закурил и отвернулся к окну.
— А зачем вообще люди делают это?!
— Всю жизнь пытаюсь понять, — признался он.
— Ну и что, понял, несчастный Гомер?!
— Да, — честно ответил он. — Чтобы убить время.
— Тогда иди! Смотри телевизор…
— Когда я говорю — «убить время», я имею в виду — не потратить его, а остановить. Люди ведь боятся скоротечности времени, и больше всего боятся времени женщины. Поэтому женщины так любят любовь.
— А тебе разве не хочется остановить время?
— Мне не хочется того, что хочется.
— Самое тебе место здесь! Среди религиозных уродов, — выкрикнула она. — Господи, как я ненавижу евреев!!! Только здесь — только здесь! — я поняла это! Вы ничего не можете делать по-человечески — ни жить ни в какой стране, ни к девушке подойти с пониманием… Даже вымереть, как динозавры, не можете!
— Но ты ведь тоже — Лидерман… — ответил он.
— И что из этого? Ты себя разве любишь? — спросила она.
— Скорее нет, чем да, — признался он.
— Ну, вот видишь…
— Ладно, пошли загорать под луной, от нее самый нежный загар. — И поймав его настороженный взгляд, добавила: — Посмотри в окно, стемнело. Твои хасидные извращенцы уже спят.
— Они, кстати, с удовольствием уложили бы нас в постель: у них рождение ребенка, как взятие Берлина, — ни с какими жертвами не считаются, — чувствуя свою вину, объяснил Алексей. Только сейчас он понял, отчего у нее такая белая, лунная кожа — от привычки загорать под луной.
— Так ты боишься стать отцом, — облегченно рассмеялась она. — Вот дурачок! А я уж испугалась, что ты не хочешь меня.
— Хочу, но не буду, — строго ответил он.
И они пошли загорать под луной.
На крыше она спросила:
— Почему ты все время читаешь чужие стихи? Где самолюбие — ты же автор «Новой Одиссеи»?!.
— В наше время писатель уже не обязан что-то писать, — открылся он.
— Это как? — заинтересовалась она.
— Литература исчерпала себя. Она уже не способна передать боль и надежду. Мир безнадежно устал, и постмодернизм подвел под этим черту. Все, что есть у нас хорошего, осталось от прошлого, в том числе чужие стихи.