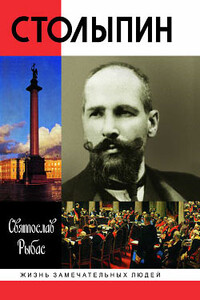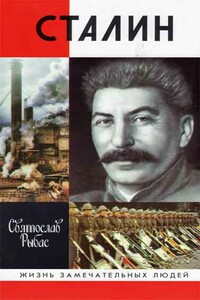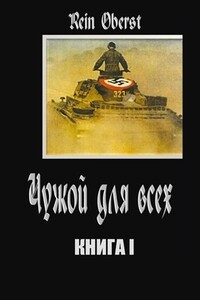1
Хохлову предстояло вести дело Агафонова, осужденного за злостное хулиганство.
Вечером в сумерках Хохлов возвращался из областного суда домой, возле подъезда увидел на скамейке грузную старуху. Она сидела прямо, расставив обутые в черные валенки ноги. Спросила: не Хохлов ли он? Судья сухо кивнул.
— Вы меня узнали? — обрадовалась старуха. И стала объяснять, что она мать покойного Антона Агафонова, который жил по соседству с Хохловым в этом доме, а сама она живет в Грушовке, где когда-то жили и родители Хохлова, старуха хорошо их помнила.
Хохлов понял, что перед ним бабка осужденного Агафонова, и ответил, что ничем не может ей помочь.
— Царство им небесное, — вымолвила старуха. — И моему сыночку, и вашим отцу и матери. Я вот меду принесла. Не покупной, цветочный, свои ульи. Подтянула к себе сумку, из которой торчало горло бидона. — Кто мне поможет, как не вы? Вы свой, грушовский.
— Извините, тороплюсь, — ответил судья и вошел в подъезд.
К Хохлову как будто подступили тени родителей, и он вспомнил, как старики хлопотали за земляков, не считаясь с его представлениями о правосудии, словно существовало какое-то особое, грушовское правосудие.
Хохлов поднимался по лестнице, снизу донеслись хлопок двери и шаркающие шаги. Он остановился, подождал.
Одной рукой она держалась за перила, во второй была отвисшая сумка.
— Мамаша, вы куда? — спросил он.
Старуха молча поднималась. Он вынужден был посторониться.
— Я не должен с вами общаться. На это есть адвокат.
Она остановилась рядом с ним, от нее пахнуло затхловатым запахом старости.
— Вам покушать надо, — пожалела его старуха. — Я вас тут обожду.
— Мамаша! — воскликнул Хохлов, видя, что она села на ступеньку и развязывает платок. — Не надо ждать. Я вам русским языком говорю: не могу с вами разговаривать. Не могу!
— Я тут обожду, — повторила старуха. — Не серчайте.
Он подошел к своей двери и оглянулся. Она сидела согнувшись, глядела в сторону. Что с ней делать? Наверняка через полчаса начнет стучаться. Хохлов еще ни разу не оказывался в таком положении, когда его пытались… нет, не подкупить, но что-то подобное этому… Он не сразу отыскал нужное слово: разжалобить. «Сказать ей о Фемиде с завязанными глазами? — спросил себя Хохлов. — Да зачем ей Фемида, если внука посадили? Должно быть, я кажусь ей каким-то идолом, и ей надо меня умилостивить».
Он вернулся к ней, решив толково объяснить свое положение. Однако старуха нахмурилась и в досаде хлопнула ладонями по коленям.
— Мамаша, давайте рассуждать здраво. Когда ваши дети были маленькими, вы их защищали, верно? А провинятся — наказывали. Может, и вина пустячная: подрался, залез на чужую бахчу. Но его ремнем стегают, вбивают уважение к законам человеческого общежития. На себе испытал, что такое «чти отца своего», «не укради», «не убий»… Без закона — ни порядка, ни жизни. А если взрослые начинают нарушать закон, то общество наказывает их.
— Закон, закон, — покивала старуха. — А на горе молитвы нет. Думаете, я хочу, чтоб вы против своей совести пошли? Боже упаси! Я, может, поплакать хочу. Поплачу и пойду!
Она, по-видимому, хитрила, но Хохлов уже решил выслушать до конца и наперед смирился со всеми детскими хитростями. Он подул на ступеньку в присел рядом со старухой.
На площадку просочился аромат кипящего сливочного масла. Старуха принюхалась и снова хлопнула себя по коленям:
— Покушать вам надо! Об ужине будете думать и серчать. А за что серчать? Что родного внука не хочу отдать? Ступайте, я обожду.
Она говорила с каким-то естественным превосходством, как будто не ощущала разницы в их положении — той разницы, которую люди обычно сами подчеркивают перед судьей.
— Пошли ко мне. Только не будете предлагать мне никаких подарков. Договорились?
Они вошли в квартиру. Старуха стала усаживаться на шкафчик-галошницу, сказала, что здесь посидит. При ярком свете она казалась очень старой.
Дома к Хохлову уже вернулась его обычная трезвость, ему стало ясно, что старуха лукаво играет роль робкой хуторянки. Он заставил ее снять залоснившееся пальто и отвел в кабинет. Она, видно, почувствовала перемену в его отношении, без стеснения прошла в своих темных валенках по ковру, села на диван.
Как и следовало ожидать, по ее словам, внук никаким хулиганом не был. Это холостые парни дурят, а ему тридцать пять лет, двое детей, семья — разве у него есть время на глупости? Он не хулиганил, а защищал свою честь от бесчестных людей. Его приемная дочь собиралась выйти замуж за сына этих самых бесчестных Кузиных, и уже свадьбу назначили, и все соседи знают, а жених взял да раздумал жениться.
Старуха рассказала о чисто грушовской истории: поселок ждал, что Агафонов отомстит, и подталкивал его к мести. Судья отметил про себя, что с точки зрения общественной морали грушовцы справедливо надеялись на наказание обманщика. Правда, никаких реальных средств для этого не было: Кузины жили в городе, им было начхать на осуждение грушовцев.
Все же Хохлов сочувствовал старухе.
Внук должен был наказать обманщика, твердила она, иначе как можно жить? Ее муж, глубокий старик, обвинил внука в трусости и сам решил проучить Кузиных. И она вздохнула: ведь старик слабенький, горелый, у него косточки крутит…