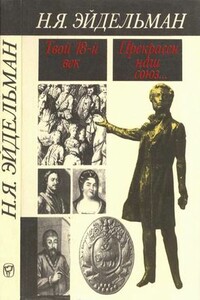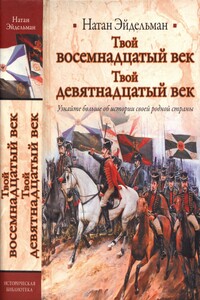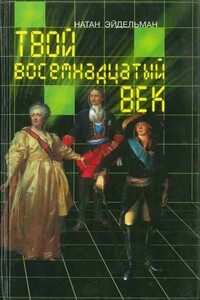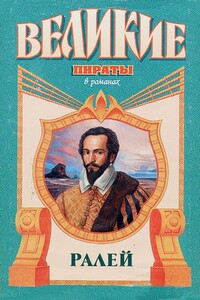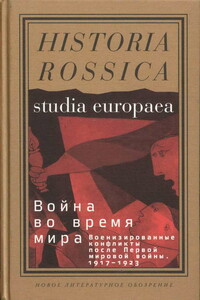Есть что-то таинственное в этой непропаже мысли, высказанной с убеждением, сердцем честным и правдивым…
М. П. Заблоцкий-Десятовский, историк.
Из письма 1858 года
Незаменимость Натана Эйдельмана ныне зияюще очевидна, как при жизни для многих была остро, неоспоримо, для иных раздражающе очевидна его неповторимость, неповторимость самой его личности, его сочинений, его наружности, не способной остаться неприметной, в каком бы окружении он ни находился, и движения его мысли и его речи, всегда взволнованной, убедительной и убеждающей, напористой, как бы кому-то вопреки.
Он стремительно ворвался в нашу литературу, в нашу историческую науку, более того — в нашу общественную и духовную жизнь и, ещё того более, в частную жизнь каждого из нас — в наше сознание, в нашу душу, определил многие наши представления, оценки, интересы, стал одним из тех, кто своей деятельностью, своими суждениями, самим своим присутствием обозначает духовный уровень своего времени.
Между тем (оставляю в стороне первые его опыты, по-своему тоже примечательные) этот, такой Эйдельман начался книгой, выпущенной в «учёном» издательстве (на обороте титульного листа: «Главная редакция социально-экономической литературы») и с названием вроде бы «учёным» — «Тайные корреспонденты „Полярной звезды“»; книжка, по внешним параметрам обречённая, казалось, на неспешную — в кругу специалистов — распродажу, разобрана была мгновенно.
Шёл год 1966-й, снова начинало подмораживать, но люди тогдашнего поколения ещё жили, набрав полную грудь тёплого и влажного ветра «оттепели». Многое переменилось в их думах и чувствах, и переменилось навсегда, грядущие холода могли сковать проявление этих дум и чувств, но были уже бессильны убить их. Переменилось и отношение к истории: мы — в большинстве — радостно расставались с вколоченной в наши головы убеждённостью, что владеем необходимым набором исторических фактов и сведений и что задача «самой передовой исторической науки», опирающейся на «самую передовую идеологию»,— давать этим событиям и фактам «единственно правильное» освещение, каковое в соответствии с потребой дня, образом правления и волей правителей, знай, переливалось красками наподобие разноцветных лучей прожекторов вокруг цирковой арены.
«Было две российских истории: явная и тайная… — утверждает Н. Эйдельман в своей книге, своей книгой.— Былое, заимствованное из официальной печати и процеженное сквозь цензуру,— скудный, порою безнадёжный источник. Если связь былого и дум очевидна, то одно познание этого факта требует получения для настоящих раздумий натурального былого».
К тому времени, когда увидели свет «Тайные корреспонденты „Полярной звезды“», наше поколение уже почувствовало и осознало вкус, смысл и значение «натурального былого». Ещё много испытаний впереди, ещё не перевелись претенденты на «конечную» историческую истину, в руках которых и власть, и цензура, и сила властвовать страхом, но непростое дело — заставить людей забыть однажды узнанную правду, особенно если в обществе живут и действуют (осмеливаются действовать) те, кто во что бы то ни стало желает, по выражению Льва Толстого, «огонь блюсти» — сохранить эту правду и приумножить её.
Главное дело Вольной печати — утверждает книга о корреспондентах «Полярной звезды» — «превращение тайного в явное». Н. Эйдельман не только рассказывал нам о Вольной печати — герценовской, пушкинской, декабристской, осьмнадцатого столетия или ещё какой,— он сам на протяжении четверти века был нашей Вольной печатью.
Поиски исторической истины воедино сплавлены с проблемой нравственности историка ищущего,— проблемой, не теряющей остроты и злободневности, томящей совершенной на первый взгляд безысходностью каждого, кто подступает к ней. «Тот, кто смотрит из будущего на прошлые события, тоже не может постичь смысла происходившего…— писала Н. Мандельштам в своей „Второй книге“.— Материала всегда хватит, чтобы подкрепить любую точку зрения. В „беспристрастной“ науке, именуемой историей, всё зависит от точки зрения исследователя… Есть только один момент для осмысления происходившего — по горячим следам, когда ещё сочится кровь…»
Многажды цитируя Пушкина — «воскресить век минувший во всей его истине», Н. Эйдельман не закрывает глаза на то, что «и кристально чистый исследователь — всё равно человек своего времени и это неминуемо скажется на изображении им любого минувшего столетия и тысячелетия», но для него, для Эйдельмана, это противоречие не неразрешимое, а живое, противоречие самой жизни, ибо и всякий современник, прибавим, не менее, нежели потомок, субъективен в процессе познания и воспроизведения истины. «Стремись к истине, но знай, что ты субъективен,— вот противоречие, которое движет историком и наукой»,— повторяет Н. Эйдельман (отметим здесь важное слово «движет»!). И «как ни странно,— продолжает он,— иногда, чем субъективнее, тем объективнее». Н. Эйдельман указывает при этом на Карамзина: следуя за летописцем, тот создавал свою особую ауру, и в этом карамзинском мире куда осязательнее, чем в неприступно-холодных строках «историка строгого», чувствуется и горячий след, и горячая кровь изображённой эпохи.