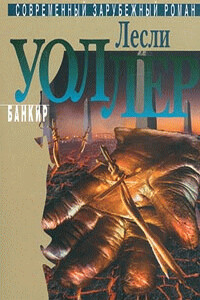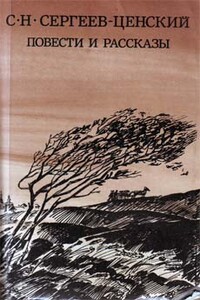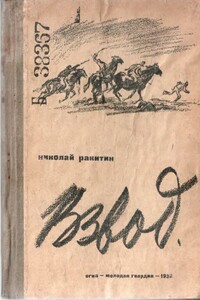1
Вот здесь, где теперь газетный киоск, стояла доска с расписанием отправления и прибытия поездов, и тут же висела в тот день детская красная туфелька. Как ясно вспомнилась теперь Ане эта туфелька с оббитым, побелевшим носком!.. В то утро, двадцать второго июня, Аня с подружками пошла в лес за земляникой, а вернулась уже под вечер, дом был заперт, и ключа за косяком в щелке не оказалось, а тут соседка: «Беги скорей на вокзал, может, успеешь — отец на войну уезжает!»
Так с корзинкой в руке и побежала, рассыпая ягоды по мостовой. И никто не удивлялся тому, что девочка бежит по улицам, и ягоды у нее из корзинки сыплются, да и все люди, кажется, только туда и спешили — к вокзалу. И народу было много в зале ожидания и на платформе, но нигде не нашла Аня ни отца, ни матери, а когда пробегала возле расписания, то видела ту самую туфельку красную, и никто ее почему-то не снимал, словно никому она и не нужна была теперь, не до нее было.
И вот еще тогда в глаза Ане бросился тот памятник около вокзала — красноармеец с винтовкой. Он возвышался над шумящей толпой неподвижно и грозно, и шинель у него была черная от паровозного, видно, дыма, и буденновка, и лицо, и при виде этого красноармейца само слово война Ане вдруг показалось таким черным и страшным!.. Этот старый детский страх ознобом пробежал и сейчас по спине — Аня даже сжалась вся и поближе подвинулась к матери. Елена Васильевна обняла дочь, и на глазах у нее опять показались слезы.
— Мама, а чего папа говорил, когда ты его на фронт провожала? — спросила Аня.
Елена Васильевна оглянулась на вокзал, на широкую лестницу, которая поднималась прямо с платформы.
— Ой, доченька, столько было народу здесь, я и не разобрала, чего он говорил… Вон там он стоял, на лестнице, уже во всем военном. — Она помолчала. Молчала и Аня. Елена Васильевна вздохнула, вытерла платком глаза. — О победе говорил…
— Нет, мама, а тебе-то он что сказал? — нетерпеливо перебила Аня.
— Тебя все ждал, все высматривал… А когда уж в вагон садился, может, говорит, я так и не увижу Аню… — Слезы опять побежали по щекам Елены Васильевны. — Ох, Петя, Петя!.. Будто сердцем чуял…
— А еще что? — допытывалась Аня, потому что она уверена была, что отец сказал для нее какие-то важные, значительные, пророческие слова, которые мать просто забыла.
— Тебя велел беречь, — с досадой сказала Елена Васильевна, — да ты вот разве слушаешь мать!
— Ладно, мама, не надо об этом, все уже решено.
— Как у тебя все просто, Аня, — с укором сказала Елена Васильевна. — Ты даже не представляешь себе, какая сейчас трудная жизнь в деревне. Да и какой из тебя работник? Если бы там больница была, врачи, коллектив, а то ведь одна…
Аня, нахмурясь, смотрела в сторону и, кажется, не слушала мать. Впрочем, ведь это у них не первый разговор на эту тему, И ласково, и слезно, и строго говорила ей Елена Васильевна о том, что она не должна уезжать в деревню, пугала ее трудностями будущей жизни там, сетовала и на то, что дочь бессердечна, бросает мать, не думает о том, как мать останется одна. И хотя Ане шел уже девятнадцатый год, Елене Васильевне дочь казалась беспомощным, несмышленым ребенком, а новенький диплом об окончании фельдшерско-акушерского училища Елена Васильевна никак не могла воспринять серьезно. Сама она работала секретарем-машинисткой в Наркомземе, там, где до ухода на фронт работал и ее муж Петр Пресняков, и работала уже давно, лет пятнадцать, и поскольку все эти годы ее окружали только важные, солидные и серьезные люди, то Елене Васильевне все иное, все, что было не так солидно и строго, как у них в Наркомземе, представлялось неумным ребячеством, в которое необходимо вмешаться, поправить, научить и наказать. И поступок дочери, ее непреклонное желание поехать на работу в деревню, хотя после училища можно было остаться и здесь, в Саранске, Елена Васильевна считала тоже ребячеством, сумасбродством упрямой дочери, которая еще не знает, что такое жизнь Особенно сейчас, когда только война закончилась. Трудно с продовольствием, трудно с одеждой, обувью… Даже у них в Наркомземе… Елена Васильевна не могла стерпеть, шмыгнула носом, слезы опять показались у нее на глазах, и она поспешно достала платок.
— Ну, мамочка, не надо, — ласково сказала Аня и прижалась к матери. — Я ведь близко буду, в любой день могу к тебе приехать.
Народу на платформе заметно прибывало. Скоро должен был подойти и поезд.
Елена Васильевна понемногу успокоилась, поправила волосы, перевязала косынку. И опять это была красивая и строгая женщина, и никто бы не мог подумать, что пять минут назад она плакала и вытирала слезы.
— Да, Аня, я совсем и забыла! — сказала она. — Вчера я видела Серафиму Ивановну, она говорит, что Леню они будут вызывать обратно. — И внимательно, испытующе скосила глаза на Аню.
Леня Маркин был друг Ани и тоже этим летом окончил училище и неделю назад уехал в Полтаву, куда дали ему назначение, и Аня уже получила от него письмо, в котором он описывал свою дальнюю дорогу и Полтаву, как все ему там нравится, однако прибавлял, что скучно без товарищей, а особенно без нее, Ани. «Я только здесь понял, как много ты для меня значишь».