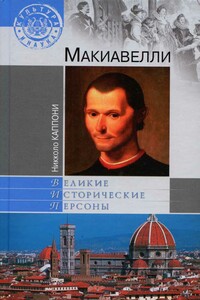Владимир Торчилин
Тени под мостами
Рассказы
Просто короткие и очень короткие рассказы, которым, похоже, полномерными
уже никогда и не стать
Эх, Осип Эмильевич...
В те давние времена на каком-то участке - про отрезок от Яузских до Чистопрудного я помню точно - "А" и "Б" шли по одному маршруту, и мы с приятелем каждый раз, когда трамвай еще не подошел, забивались, какой появится первым, чтобы назвавший именно его и выигравший именно на нем и поехал, дабы первым добраться до "Колизея" и ждать там второго, обреченного ехать позади - по рельсам не обгонишь - на ошибочно выбранной букве. Он всегда выбирал "А" и на нем и ехал. И умер первым, то есть скорее. И во мне навсегда остался вопрос: а что было бы, если бы "Аннушку" называл я и, соответственно, ездил бы на ней тоже я - умер ли бы я первым? То есть была ли смерть внутри каждого из нас сама по себе или же закладывалась трамвайной буквой, независимо от того, кто на этой букве оказался? И так это для всех или только для нас с ним? Как там с остальными пассажирами, которые тоже могли ехать и на "А", и на "Б"? Конечно, абсолютное большинство из них садились то в тот, то в этот, так что роковые свойства "Аннушки" статистически компенсировались благоприятным прогнозом "Бэшки". Но вот если были такие, что из суеверия или еще по каким персональным своим мотивам предпочитали один другому и даже готовы были пропустить нелюбимую букву, чтобы прокатить свои пять остановок на той, что была по душе, то как бы выглядела статистика в их случае? Уходили ли из жизни упорные пассажиры "А" скорее, чем столь же упорные ездоки "Б"? Да или нет? Волнуюсь, спрашиваю, кричу... Нет ответа... Вот до чего поэзия доводит...
МАРТ
Захватанная мартом мостовая...
Борис Пастернак
...Он шел по Невскому и бормотал стихи.
Зима кончалась. На мостовых, там, где еще совсем недавно лежал толстый слой слегка желтоватого городского снега - его выпадало так много, что стрекотавшие всю ночь зимние снегоуборочные жуки никак не могли добраться до черного летнего асфальта мостовой и оставляли суете следующего дня только слегка уезженный и несколько побелевший пласт, - теперь была натянута начинающая трещать по всем местам разом грязновато-розовая тоненькая пленка, исчерченная бесконечными узорами протекторов. И впрямь казалось, что кто-то огромный, оттирая замазанные в неведомой работе пальцы, провел ими от Московского вокзала до Дворцовой, оставляя на истонченном снегу следы широких папиллярных линий; а в тех местах, где его пальцы прижимались к снегу особенно сильно, они и вовсе напрочь сожгли его, и теперь эти места резали глаз круглыми чугунными крышками люков, вокруг которых слегка подрагивали раскачиваемые проносящимися машинами и еще готовые обратиться по первому требованию в лед узкие лужицы. Мимо, мгновенно рассыпаясь в висячей предвечерней мути, пролетали неразборчивые силуэты троллейбусов, из которых сквозь продышанные на стеклах маленькие бойницы пытались узнать убегающие по обеим сторонам улицы места замкнутые в дымчатой наледи пассажиры.
Он шел годами протоптанным в голове путем с Невского направо, потом вдоль облупившихся за последние дни - вот она, физика: днем вода, а ночью лед, как тут краске удержаться? - намалеванных прямо на глухой стене реклам каких-то никому неведомых новых фильмов, потом за железную решетку забора между надежно укрытыми во дворах матерыми сугробами еще и не помышлявшего о марте белого февральского снега, оставляя за правым плечом здание переделанного из старой лютеранской церкви бассейна, дверь которого то и дело открывалась, выпуская во внешний мир безошибочно узнаваемые запахи тяжко хлорированной воды и кисловатых раздевалок, потом через проходную подворотню, испытывающую способность проходящих балансировать на набросанных под ноги ледовых окатышах, и сразу направо, на Желябова, мимо тира, из-за прикрытой железной двери которого раздавались отчетливые, чуть глуховатые звуки выстрелов и жестяные шумы от падения бесконечно оживающих на бегущей дорожке двухмерных медведей, кабанов и оленей, мимо погруженного в полуподвальный сумрак продуктового, мимо кипящего на противоположной стороне улицы нескончаемого разноцветного варева пестрых гостей ДЛТ и, наконец, к тяжелой и обстоятельной двери своего подъезда под нависающим над самой головой цементным балконом с причудливо выгнутой наружу металлической оградой, на котором на его памяти никто никогда не появлялся ни в январе, ни в марте, ни в июле.
Перед самым подъездом он остановился и, развернувшись в сторону людного конца (или начала?) улицы, замер, с тоскливым раздражением перебирая про себя покалывающие подробности отбушевавшей полчаса назад очередной ссоры с другом. Они знали друг друга уже чуть не двадцать лет, с трехлетнего, наверное, возраста, когда послевоенные мамы приводили их, закутанных в бесконечные капоры и шарфы - именно это, да еще тугие валенки, сильнее всего врезалось ему в память - в маленький детский сад, объявившийся как раз на полдороге между их домами, и все эти годы не могли друг без друга прожить и дня, так что потрясенным такой диоскуровой дружбой родителям пришлось не только познакомиться, но даже и снимать на лето дачное жилье по соседству друг с другом в свежеотвоеванном у финнов уголке за Териоками. Но самое удивительное, что за все эти годы они и двух часов не могли пробыть вместе, не разругавшись в прах, в дым, в золу невидимую по причине полной своей непохожести, заставлявшей их каждый пустяк видеть и воспринимать совершенно по-разному. Вот и сейчас он даже не мог толком вспомнить, что было началом, толчком, отправной точкой вспышки, взрыва, взаимных обвинений в душевной чертвости и в умственной тупости, попреков тем, что было вчера, и позавчера, и позапозавчера, и, как водится, пожеланий не видеть друг друга до скончания дней своих. Книжек, что ли, перечитали? В нем корчились, толкая друг дружку, сонмы неколебимых в своей логичности и обоснованности аргументов, которые так и не смогли просверлить даже крошечной дырочки в серой бетонной стене непонимания, нет, даже просто нежелания или невозможности понять его, словно бы язык одного звучал мертвым и непостижимым рокотом для другого.