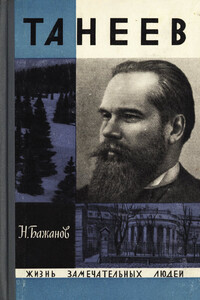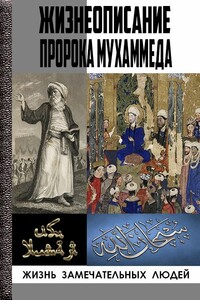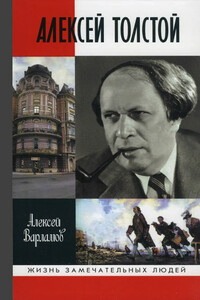1
Этот дом на Воздвиженке, принадлежавший в середине прошлого века захудалому барону Арманду, левым своим крылом выходил на Арбатскую площадь.
Нижний этаж занимали торговые заведения. С угла был вход в зоологический магазин, рядом красовалась вывеска лавки купца Чичкина.
В двух верхних размещались классы Московской консерватории. Лишенный каких бы то ни было архитектурных претензий, заурядный доходный дом отличался от смежных только тем, что с утра до вечера весь гудел как многооконный улей. По этажам, лестницам и темноватым коридорам, где целыми днями, коптя, горели керосиновые лампы, ходило гулкое нестройное эхо от множества скрипок, фортепьяно, валторн, контрабасов и поющих голосов.
Повсюду, не слушая друг друга, пилили смычками, барабанили по клавишам, трубили и распевали сольфеджио и вокализы. Они — это младое неведомое племя фанатиков-музыкантов, — казалось, хорошо знали, что делают и чего добиваются, верили, что весь этот шумный азарт способен в какой-то мере возместить изъяны их первоначального образования.
По свидетельству современников, средний уровень подготовки поступивших в консерваторию по первому набору был весьма невысок. Один из скептиков желчно заметил, что половину из этих ста пятидесяти «волонтеров» надлежало немедля выгнать за полной непригодностью.
Но главный зачинщик музыкального дела в Москве Николай Григорьевич Рубинштейн порой загадочно про себя улыбался. Он глядел дальше других, в страстной одержимости своих «желторотых птенцов» видел залог будущего.
И сам Рубинштейн, и его время давным-давно отошли в область легенд и преданий, но в памяти живых свидетелей основания консерватории надолго сохранилась приподнятая атмосфера музыкального праздника, царившая всякий раз на открытых ученических вечерах, которые от поры до времени устраивала дирекция.
Один из таких вечеров на втором году со дня основания консерватории пришелся на последнее воскресенье ноября 1867 года.
Наперекор злому ненастью съезд превзошел все ожидания. Народ валом валил через дверь, раскрытую в глухие осенние потемки. Входили, притопывая ногами, встряхивали на ходу забрызганные зонтики, шали, капоры и ватерпруфы.
Зал был переполнен. От множества горящих свечей стояла духота. Позади кресел и вдоль стен в боковых проходах теснились учащиеся: в то счастливое воскресенье вся музыкальная Москва собралась в доме Арманда.
На эстраде сменяли друг друга певцы и музыканты, совсем несхожие между собой по возрасту. Но в каждом было что-то по-своему привлекательное. Каждому в меру сил своих хотелось блеснуть, показать лучшее, на что он способен.
Во время антракта в курительной комнате собрался почти весь консерваторский олимп. Все были настроены благодушно. Веселые шутки перелетали из угла в угол. Но вот на пороге появился прямой, как палка, усатый солдат Григорий, консерваторский швейцар, и принялся что было мочи трясти увесистым медным колокольчиком.
Курильщики один за другим потянулись в зал.
Среди них был и тот, кого друзья в шутку величали «державным основателем», и его соратники первых лет консерватории: Фердинанд Лауб, Юзеф Венявский, Николай Кашкин, Герман Ларош, Эдуард Лангер и, наконец, совсем еще юный преподаватель курса гармонии, вошедший в зал об руку с директором, Петр Ильич Чайковский.
Был он скромен, очень застенчив, два года без малого как прибыл из столицы, был ревностным посетителем Малого театра и Артистического кружка. Из его собственных композиций москвичам-меломанам были знакомы пока всего лишь концертная увертюра и скерцо из симфонии.
А между тем молва сулила ему сделаться в будущем музыкальной звездой первой величины.
В начале второго отделения было объявлено, что «первую часть сонаты Моцарта ля минор исполнит ученик Танеев Сергей из класса преподавателя Лангера».
Велико было удивление слушателей, когда на эстраде, словно из-под земли, вырос вихрастый малыш лет десяти, в серой гимназической курточке, подпоясанный ремешком. «На его детском личике, — вспоминала сверстница Танеева А. Я. Александрова-Левенсон, — во всем его образе уже тогда лежала печать серьезности и скромности, черты, столь характерные, сопровождавшие его до гробовой доски…»
Притом «ученик Танеев Сергей» был до того трогательно мал, что при его выходе гул веселого оживления пробежал по залу.
Неуклюже, куда-то вбок, шаркнув ножкой, он не спеша направился к роялю, взобрался на пирамиду из растрепанных нотных тетрадей, воздвигнутую на табурете, и тотчас же начал играть.
И с первыми же тактами сонаты снисходительные улыбки в зале исчезли, уступив место настороженному вниманию.
Малыш сидел на своем помосте, не доставая ногами до педали, упрямо нагнув круглую, немножко лобастую голову, и возводил на клавишах затейливую постройку.
Нет, это не был карточный домик, сложенный перстами вундеркинда. Поражала вовсе не «ювелирная отделка» деталей (тут дебютанта, будь он немного постарше, пожалуй, можно было кое в чем упрекнуть), но глубокая осмысленность игры. Он, видимо, ясно представлял себе целое и чувствовал себя хозяином в орбите моцартовского аллегро. Мелодии повиновались его зову и вырастали одна за другой. Одной он радостно улыбался, на другую хмурился.