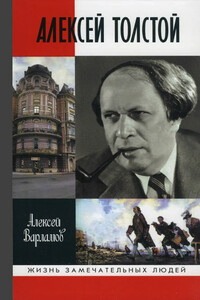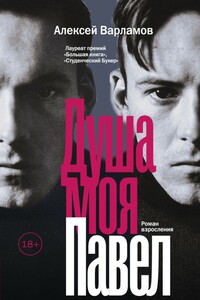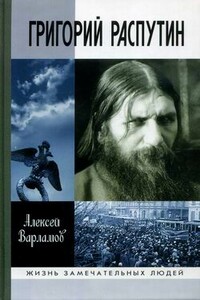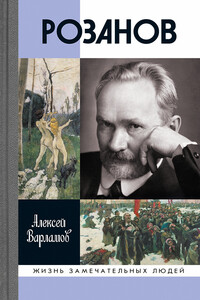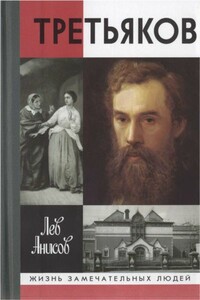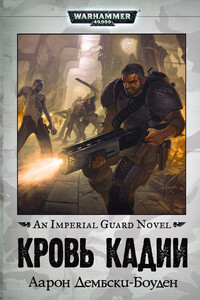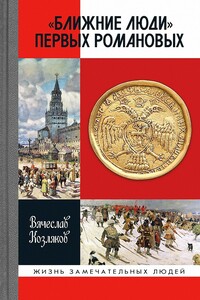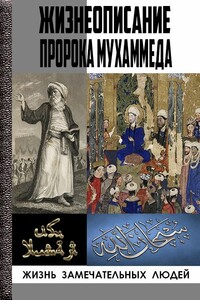АКРОБАТ НА ГОРОШИНЕ,
ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ ТОЛСТОЙ
Если подумать, всякое прилагательное и всякое определение, каким мы чествуем человека, — это только вариант его имени, попытка позвать его, выделить из толпы, классифицировать, найти ему единственное место в своем миропорядке. Мы зовем человека умным, глупым, блестящим, несчастным, лжецом, правдолюбцем, приспособленцем и тем строим свое внутреннее государство, распределяем «портфели» в своем «правительстве». А если так, то самым трудным, самым хлопотным, беспокойным, ускользающим человеком в рвущейся, навсегда отменяющей высшие сословия русской истории был граф Алексей Николаевич Толстой. Последний, кто носил этот титул, не снимая его даже на ночь и чувствуя его сквозь все перины, булыжники, границы, опасности и отрицания. И, наверное, потому его нельзя было огородить определениями. Он легко носил их все, и в самые трудные дни был театр, представление, праздник.
Он был (и не только в этой книге) — «лихоумец, восхитительный циник, очаровательный негодяй, ловкий рвач, щедрый мот, мажорный сангвиник, ненадежный друг, маленький лорд Фаунтлерой, герой капиталистического труда». И он же был «отличный рассказчик, веселый собеседник, великий писатель, академик, депутат Верховного Совета, трижды лауреат Сталинской премии, знавший всё русское, как не многие».
Немудрено, что человек, надумавший написать о нем книгу, рискует оказаться в десяти ловушках сразу и в конце концов потерять своего героя за карнавалом масок. Временами кажется, что граф провоцировал своих биографов и они легко «покупались» на его дневной маскарадный образ, что заметно даже по лучшим его «житиям», написанным блестящими перьями И. Бунина, Р. Гуля, Ф. Степуна. А уж у тех, кто рангом пониже, он и вовсе теряется в лукулловых пирах, чужеземных машинах, роскошных гардеробах и фамильных портретах, которые он сам весело зовет купленными на барахолке. Он как будто каждого вовлекает в игру и заставляет пожить на своем острове Кифера, где никогда не заходит солнце.
И, кажется, только Бунин отметит, что после всех пиров, кутежей, проигрышей он обмотает голову полотенцем — и за стол! За работу — во всяком состоянии. Только — кто это видел, кроме самых близких. И казалось, что все у него делается играючи, без труда, его веселым талантливым «брюхом». Но и «брюхо», конечно, было. Кто только не корил «маленького» Толстого недостатком образования, и тем не менее, чего он ни коснись, все делалось живым, словно вырывалось само собой, как его любимый Буратино из-под руки папы Карло. И он это так живым и оставлял — с длинным носом, со всем сором и случайностью, во всей свежести первого дыхания, так что высокие стилисты всегда немного морщились и затруднялись в словах. И спасались в противоречивых парах, как Георгий Адамович, который говорил о «бессознательности» дара Толстого, дивясь «размашистой неряшливости» и «блестящей растрепанности» его письма. И это всегда и естественно связывалось и с самим порядком (или беспорядком) нравственной жизни Толстого. Так что нравственно безупречный И. А. Ильин с досадой говорил, что «с таких людей обыкновенно не взыскивают строго ни за их выверты в искусстве, ни за их зигзаги в жизни и политике. За ними как бы признается привилегия безответственности». И тут же назовет его «всадником без головы на шалом пегасе красочной фантазии».
Но про «выверты в искусстве», пожалуй, зря. Уж кто только не кипел вокруг Алексея Николаевича в России, Париже, Берлине при его-то умении все время оказываться в центре любой компании: футуристы, акмеисты, ничевоки, «ослиные хвосты» и «бубновые валеты», Сологуб и Маяковский, Бунин и Эренбург, Ахматова и Крученых, Белый и Кузмин, и кого только не сбрасывали «с парохода современности», а к нему словно ничего не приставало.
Выручали здоровая русская кровь, «брюхо» его, родной язык, который он так любил, сама стихия победной жизни, так что и противники надумают осудить за беспечность посреди горя, за сытость посреди голода, за удачливость посреди общей беды, а в конце концов махнут рукой и простят.
Алексей Варламов избирает в своей книге о нем самый верный путь — все увидеть, все понять, ни от чего не увернуться, привести все свидетельства, но не торопиться склоняться на чью-то сторону, потому что христианским опытом знает, что судить любого человека из другого времени, из далеко ушедшей жизни самонадеянно и несправедливо. Нравственный закон при всей непреложности своей дышит сотней оттенков быстротекущей истории, так что одно слово и один поступок могут по-разному быть истолкованы при деспотизме и демократии и по-разному преломиться в умах даже живущих через дорогу современников.