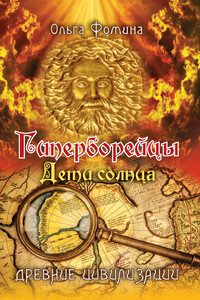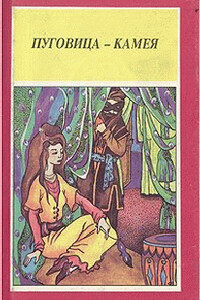Недавно исполнилось сто лет со дня рождения одного из крупнейших поэтов Германии двадцатого века Георга Гейма.
Он родился в 1887 году и прожил недолго: двадцати четырех лет, катаясь на коньках, он утонул под провалившимся льдом. 1912 год, год гибели Гейма, это еще мирное время. Но его стихи, его опыты в драматургии и прозе создавались будто в предчувствии надвигавшихся на Европу потрясений — «некалендарного двадцатого века».
С фотографии на нас смотрит круглое, мальчишеское лицо, напоминающее известный портрет другого трагического гения Германии — молодого Клейста: те же округлость и доверчивость, то же жуткое несоответствие портрета творчеству и рано оборвавшейся жизни. Как в прошлом веке драматургия и проза Клейста, так в нашем поэзия Гейма выразили глубокое неблагополучие времени и жестокость мироустройства.
В истории литературы Гейм значится предтечей экспрессионизма. Но это лишь часть истины. Вместе с другими замечательными поэтами своего поколения он открыл за немногие годы творчества новое понимание времени, новый мир образов, новый язык, важные для всей немецкой поэзии.
Предшествовавшие десятилетия в культуре Европы получили наименование «belle époque». Связи с реальностью были ослаблены. Время отражалось косвенно — в усталости, тронутой увяданием красоте, томительно-сладостном предчувствии конца. В поэзии Гейма заметен отблеск этой культуры, но куда заметней разрывы. «На гребне belle époque, когда все казалось в совершенном порядке, сумасшедшие, убийцы и бунтари Гейма были созданием человека, сохранившего разум», — писал о его стихах спустя полвека Стефан Хермлин. В этих стихах и в самом деле много сумасшедших, бунтарей, а кроме того, калек, нищих. Но автор далек — это сразу ясно при чтении — от сентиментального сочувствия «бедным людям». Гейм видел все обобщенней, крупней, видел не только страдания человека, но и искалеченный род человеческий.
За долгие годы у нас стало дурной традицией принимать за бессилие трагическое восприятие жизни. Там, где следовало ценить бесстрашие, видели пессимизм и слепоту. Между тем поэзия Гейма, как и творчество многих других выдающихся лириков того времени, обладала исключительной силой исторического предвидения. Это сказалось не только в стихах, рисовавших не начавшуюся еще войну (такие пророческие стихи есть не только у Гейма), но и в совершенно новом восприятии жизни, новой ее оценке. Мир увиден здесь «как будто не теми глазами, не глазами людей, привыкших отворачиваться от безобразного и отводить мертвым пространство за решеткой на кладбище. Гейму претило слабодушное забвение ужаса и смерти — он видел смерть там, где она ежедневно совершает свою работу, среди жизни.
«Мертвецкий дом» — названо одно из его стихотворений. Это и дом его поэзии: мертвые населяют ее гуще живых. Можно по-разному отнестись ко всем этим скопищам мертвецов, которые переполняют у него, наседая в неистовстве друг на друга, реку Стикс, уподобляются тянущимся по небу облакам или — целый народ! — лежат на столах в морге. Можно неприязненно отвернуться, а можно, почувствовав силу этой поэзии, задуматься над стихами. Дело не только в художественном вкусе читателей, хотя это конечно, первостепенно — дело еще и в выборе, который делает для себя каждый: знать или не хотеть знать; понимать, замечать, видеть или закрывать глаза на происходящее. Ведь в одном нельзя заподозрить Гейма — в обмане, в произволе мрачного воображения. Всего через несколько лет после последнего его стихотворения миллионы мертвецов — а потом еще! и еще! — пали в землю Европы.
Привычные разделения безобразного и прекрасного, живого и мертвого, человеческого и природного у Гейма забыты и отменены. С каким-то немыслимым состраданием отталкивающее уравнено у него с прекрасным (так в стихотворении «Спящий в лесу»). Щемящая жалость не высказана, а выражена в самом построении этих стихов: красота не отворачивается от тлена. В одном и целом соединены противоположные, противоречащие друг другу начала: свет и тьма (он пишет однажды о «черном пламени»), движение и статика («неподвижный поток»). Крепко спаянные слова взрываются внутренней несовместимостью. Развития и динамики почти нет (обычно они замещены все новыми и новыми точками, с которых увиден предмет, и новыми пространствами, открывающимися читателю). Но развитие тут заложено — все существует в предчувствии взрыва.
Отсюда напряженность этой поэзии, ее кричащая образность, особенно яркая уже в переводившихся на русский язык и потому не включенных в подборку стихах Гейма о городах (одно из них было переведено Пастернаком).
Образы у Гейма картинны, предметны (солнце у него «как бочонок», «как желтый тюрбан»). Кажется, что он мог быть художником, как молодой Маяковский. Но окраска своя, геймовская, гораздо более мрачная (лишь изредка у него в ходу другая палитра — и все тогда, как в детской сказке, пурпур, голубизна и золото). Метафоры, разрастаясь, создают уже не образное отражение действительности, а новую предметную реальность, не похожую на первую, но выражающую ее суть. В таких стихах, как «Umbra vitae» или «Слепые женщины», говорится, в сущности, о состоянии мира, и «корабли, повисшие в волнах» — знак оборванной жизни, прекратившегося движения.