Николай Владимирович
Блохин
СПЕЦПРОДОТРЯД ИМЕНИ
ТОВАРИЩА ДИОКЛИТИАНА
повесть
Отъевшийся на
реквизированном сене конь Семёна Будекина испытывал к согнанной толпе такую же
классовую ненависть, как восседавший на нём хозяин и командир. "Да ведь и
эти ничего добровольно не отдадут..." Конь хрипел и скалил на толпу зубы.
А Семён, приподнявшись на стременах, уже гремел всей своей зычностью:
– Внимай мене,
селяне-поселяне, буржуены земляные,.. а ты,.. нетрудящийся культовый служака,
охмуряла! – шибче всех внимай! Мы к вам с продразвёрсткой с войском моим. И
весь мировой пролетариат незримо за мной стоит... Не, сорок дворов всего, а
поди ж ты, церквёха есть. Эх, богомолики вы мои, святенькие вы мои!.. Слых,
комиссар, а в ей мощи есть? Ишь ты, в такой-то махонькой! А-а, местночтимые,..
ладно, отместночтились, гы... И так! Я есть... командир особого чрезвычайного
спецпродотряда имени товарища Диоклитиана.
У стоящего впереди толпы
священника отпала челюсть.
– Имени кого? –
оторопело переспросил батюшка.
– Имени товарища
Диоклитиана! Хош и импяратор, а наш человек, ба-альшой революционер, пошустрил
богомоликов, да таких вот как ты, попов-охмурял... Чего пялисся-то?
– Дак, удивительно.
Много уж тута всяких проходило и белых, и серых, и красных – разномастных, а вот
чтобы имени товарища Диоклитиана,.. такого и подумать не мог, что увижу.
– О многовом об чём вы
подумать не могли, мно-о-го чего не видали! Глядите вот теперь, пока гляделы не
выест.
– Дык чем ж тебе
богомолики да попы насолили, что аж Диоклитианову тень потревожил? Сам-то
крещёный, небось?
– Небось! – грозно
ответил Семён. Помрачнело вдруг его весёлое бесшабашное лицо. – Ты мене
крещеньем моим не тыкай, раскрещён я ныне, рас-кре-стилси!
– А нешто можно
раскреститься-то?
– Всё ныне можно. Озлён
я ныне на вас, попов-богомоликов, ох, озлён! Открыли на вас глаза люди добрые.
– Уж не энтот ли добрый,
что за спиной твоей на добром коне, вон свои глаза закрыл, млеет, твои-то
открыв.
Выдвинулся тут конь
комиссаров, а сам горбоносый комиссар, свесившись к батюшкиной бороде,
проскрежетал с ухмылкой:
– А ты, оказывается,
бесстрашный, поп, храбрый, да? Да! Я – открыватель глаз, я... А твои – закрою
сегодня.
– Да уж сделай милость,
закрывай скорей, а то уж невмоготу видеть вас... Да ещё и имени товарища Диоклитиана.
Только открыл было рот
комиссар, чтобы сказать что-то совсем уже злобно-едко-убивающее, да вдруг
остановил свой взгляд поверх поповской головы, чем-то вдруг заворожился будто и
– сразу пошёл конь комиссарский, толпу раздвигая. Остановился конь через пять
шагов. Расхохотался комиссар в голос:
– Ва! Азохен-вей,
господин доктор, ай да встреча!.. Ай-ай, главный русопет и жидоненавистник
Империи и в таком виде, ай-ай... Далеко ль путь держим, ваше черносотенное
величество, чи в Ростов, чи в Севастополь? А вам идут крестьянские тряпки,
доктор Большиков, ха-ха-ха...
Свесился с коня
комиссар, наклонился совсем близко к лицу того, на кого наехал:
– Ну и скажи-ка ты мне
теперь, чей Бог есть Бог: мой – гойский истребитель, или твой – слюнтявый
добродел-самозванец? Это ведь не твой милостивец тебе не помог сквозь нас к
своим пробраться, ибо он вообще ничего не может; не-ет, это мой Мститель тебя к
моим ногам бросил!
– Чо, знакомый? – Семён
подъехал к комиссару.
– Знако-о-мый.
Рекомендую – первый российский монархист-черносотенец и белогвардеец, доктор
Большиков – публицист и деятель,.. ну, там, может и не первый, ну, второй или
третий,.. но в первой десятке это уж точно. Книжечку накропал десять лет назад,
где революцию нашу и всех деятелей её обгаживает, опомоивает. Застрял, вишь,
ха-ха-ха, крестьянчиком прикинулся!
– Так что говорить-то с
ним, шлёпнем на месте, и всё.
– Не-ет, Сёма, чуть же
погодим, погоди... Давай-ка его с попом вместе в сарай церковный, вон в тот,
запри-ка их... а этих, остальных, распусти пока, мы тут щас обсчитаем пока, что
с этой деревенькой делать... да мощи ещё... Идея есть! Поразвёрстничаем чуть
после, впереди, вон, Знаменское, триста дворов, а тут-то и взять особо нечего,
кроме как из церкви.
– Так ведь потырят,
позаныкают окладики да золотишко своё, пока мы обсчитывать будем.
– Да ничего они не
заныкают. Из домов не выпускать никого, вот и всё; а там бабам к переднице штык
поставим, пусть подумают: со штыком ли посношаться или изо всех щелей что ни
есть вынуть. Вынут! А мы с тобой в алтарь пойдём военный совет держать, а
заодно и потрапезничаем за престолом, норму свою допьёшь.
– Эт-то
всепреобязятельно, гы, – повеселел опять Семён Будекин. Вообще-то всегда
весёлым был Семён, весело жил, весело с германцами воевал, весело в революцию
въехал, весело речи огневые держал, весело отнимал. А дореволюционная жизнь уже
и не помнилась совсем, не вспоминалась, да и вспоминать-то было нечего. Не
занудливую же токарную работу вспоминать на резиновой фабрике Брауна, не девок
же своих многочисленных, к которым всегда относился как к семечкам – лузгнул и
выплюнул. Одному попу, которого недавно в расход пустил, перед тем, как пулей
раскрошить ему мозги, выплеснул в бородатую физию его:
"Православна-а-авная держа-ава, твою так!.. Откуда ж в ей, православной,
шлюх столько?! Сам по ним прошёлся, знаю, чо грю!.." Драки вот, после
поддатия, улица на улицу, те вспоминались с удовольствием, драться всегда
любил, лихим драчуном всегда был. Когда в мае шестнадцатого немчуру в Москве
громили по чьей-то подсказке (хрен теперь найдёшь, по чьей) с очень большим
удовольствием в громлении поучаствовал, ту же фабрику Брауна и громил он, до
самого вот только Брауна не добрался, но кабинет его искрошил в щепки. Пол
Китай-города было тогда в огне, на четыре миллиона тех золотых рублей нажгли,
накрошили, накорёжили. И полицейским, на пути вставшим, досталось, и
полицейским вставили. Тогда впервые он и свиделся с нынешним своим комиссаром,
товарищем Беленьким. Будто из под земли вырос он, глаза завлекающие бешеные горячие,
глотка – паровоз переорёт. На тумбу взобрался и проорал:
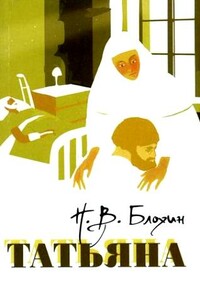


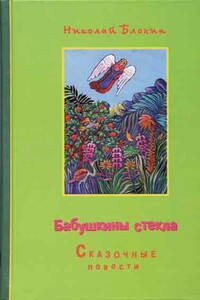
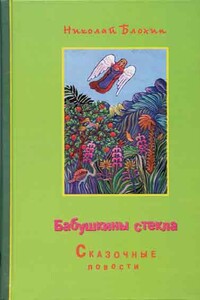

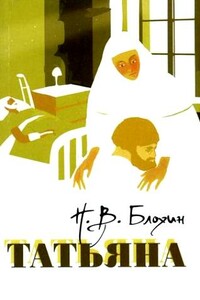





![Песнь в мире тишины [Авторский сборник]](/storage/book-covers/be/be2723eec8d85dc3b97a39d8364c2aa9175ec9cf.jpg)



