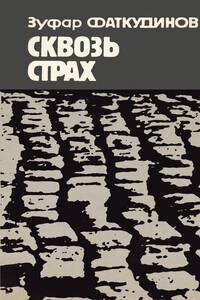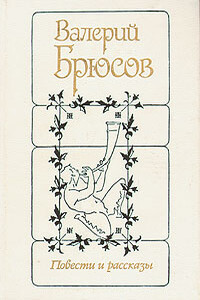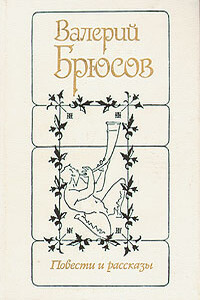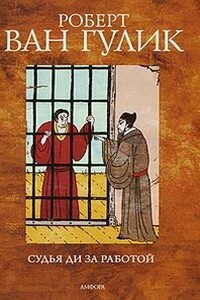Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.
А. Пушкин
В полдень сквозь плотные серые тучи прорвался осенний луч солнца и весело скользнул по кишевшему муравейником городскому базару. Но этот проблеск в сумрачных буднях никто, кажется, не заметил. И солнце, словно обидевшись за это на огромную разношерстную шумливую толпу, утопавшую в заботах и нужде, исчезло, брызнув напоследок многочисленными яркими искорками по начищенным медным самоварам, керосиновым лампам, посуде и прочей блестящей утвари, выставленной на продажу. Только рослый рыжеватый юноша грустно взглянул на непроницаемую пелену облаков, натянул на коротко стриженую голову только что купленную кепку и двинулся к выходу с базара.
В размеренный базарный шум неожиданно ворвались крики. Вспыхнула драка. Двое мужчин силились скрутить небольшого мужика в солдатской гимнастерке. Тот яростно отбивался от наседавших и пытался бежать. Но тут на помощь нападавшим подоспел какой-то тип в полувоенном френче и в клетчатой фуражке, похожий на типичного полицейского сыщика, и чаша весов склонилась в пользу этих троих. Толпа зевак тупо, инертно созерцала избиение. Когда окровавленного мужчину в гимнастерке свалили на землю, рыжеватый юноша вскричал:
— Стойте!!! Что вы делаете, люди?! Ведь убьете! Стойте!!!
Но на его призывы, как в дремучем лесу, никто не откликнулся.
Тогда молодой человек схватил одного из нападавших за руку.
— Остановитесь! — И, обернувшись к толпе, крикнул срывающимся голосом: — Куда же вы смотрите! Ведь насмерть забьют человека!
Разъяренный мужчина, резко повернув к нему толстое красное лицо, скорчил устрашающую гримасу и схватил парня за ворот пиджака.
— Щенок! Куда ты лезешь? За большевиков, германских агентов, заступаешься? — И с силой ударил его по лицу.
Рыжеватый защитник полетел на кучу глиняных горшков.
— Ой, мои горшки! Ой-ой-ой! — заголосила рыхлая, как овин баба. — Ой, окаянные, што наделали! Все побили. Да што же это на свете творится-то, а?!
Парень медленно встал, сбросил с себя вещевой мешок и неожиданно для всех, как тигр, бросился на обидчика. Высоко подпрыгнув, пнул того в поясницу. Мужчина на какое-то мгновение замер, как при остром приступе радикулита, согнулся и беззвучно повалился на заплеванную семечками и окурками землю.
Сильный удар в бок одновременно двумя руками юноша нанес другому нападавшему, и субъект в полувоенном френче, судорожно глотая воздух, как рыба на берегу, бессильно опустился на корточки. Вскоре и третий мужчина, получив увесистый удар в живот, плюхнулся носом в базарную грязь.
Всех, глазевших на эту драматическую сцену, ошеломили не только неожиданные приемы борьбы, но и какое-то невероятное, сказочное перевоплощение робкого, хрупкого паренька с негромким просящим голосом в грозного, ловкого бойца со взрывной, дикой энергией.
— Это ж магрибский колдун! — проронил кто-то из толпы. — Из ягненка превратился в льва!
— Свят-свят-свят, — подала голос толстая женщина, перекрестившись, — какая-то бестия окаянная, не иначе…
— Хватай его да в каталажку! — выдавила из себя возбужденная темноликая толпа голосом подвыпившего обывателя.
Но в толпе никто не шелохнулся.
— Ишь, чего сказанул! — недовольно обронил худой, как жердь мастеровой в залатанной промасленной одежде. — Поди сам хватни его! Попробуй! Он те открутит башку-то супротив резьбы.
— И правильно сделает! — откликнулся молодой голос. — Трое на одного! Что за драка? Надо один на один. Вот он и заступился!.. Сволочи…
— Полиция!!![1] Обла-а-ава-а!!! — истошно завопили голоса со стороны главных ворот.
— Господи! Да што же это за наказание божье! Што же это за напасть-то, — с отчаянием заголосила, словно на кладбище, высохшая как мумия, старушка. Ее костлявые, почерневшие от изнурительной работы руки с сильно набухшими венами, по которым, казалось, струился не поток крови, а жидкий чернозем, с судорожной быстроты сгребали в кучу огородную зелень. — Господи! Што же это за время-то такое! Не продать, не купить! Только все отымают да смертью грозятся. Голод-то в могилу ужо сведет…
Людской поток, сметая на своем пути лотки, столы с товаром, докатился тем временем до середины базара.
Как и всякая неразбериха, эта базарная стихия тотчас породила жулье; грабили открыто, беззастенчиво хватали чужие вещи, вырывали из рук деньги, вырезали карманы, срывали с головы картузы и безнаказанно растворялись в одичавшей толпе.
Вот уже человеческая лавина поглотила лежавших в пыли избитых мужчин, бедную бабусю с ее отчаянными причитаниями. Людской водоворот закрутил и Шамиля Измайлова вместе с мужчиной, за которого он заступился. Мужчина в разодранной солдатской гимнастерке, которого Шамиль мысленно окрестил «служивым», согнувшись, словно под тяжестью огромной ноши, медленно ковылял, вытирая дрожащей слабой рукой кровь и пыль с лица. Юноша подхватил служивого, не давая ему упасть. В обнимку, шатаясь, как два крепко подвыпивших дружка, они потащились к воротам базара. Где-то совсем рядом начали захлебываться частыми трелями милицейские свистки — вечные спутники человеческих несчастий и тревог.