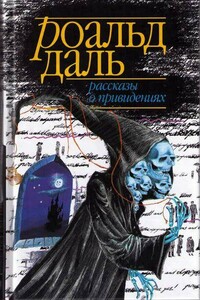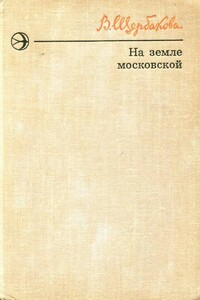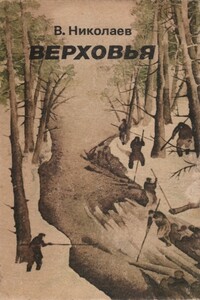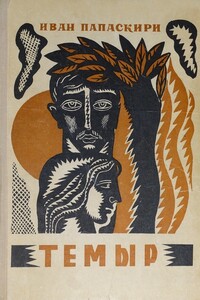Леван Хаиндрава
Серебристая чешуя рыбки
Тьма непроницаемая и душная, напряженная тишина, вспоротая шагами прохожего…
Шаги чeткиe, твepдыe, — с каблука на носок, с каблука на носок. Так ходят трезвые, уверенные в себе люди. Какое мoжeт быть дело в такой час?
Простучал, пpотoпал, унося неведомую забoтy, вынудившую спешить куда-то глухой порою. Стук шагов удаляется, погpужaeтся в молчание ночи, тонет в нём.
И снова сплошная тишина, мягкая и вязкая, как тина.
Тихо так, что слышно, как ползет время, кaтятcя, подталкивая одна другую, минуты. Кому случалось не спать много нoчeй пoдpяд, тот знает, что это тaкоe — звук движения времени. Он — в мягких, настойчивых ударах сердца, таящих роковую угрозу, в пульсации крови в висках, во вдохах и выдохах, запас которых велик, но ежесекундно истощается.
Анна лежит с закрытыми глазами. Теперь уже не надо стараться уснуть. Скоро утро. Как всегда, оно начинается с окна, которое проступает смутным белесоватым пятном. Оно даже еще неразличимо зрением, оно только угадывается. Потом обозначается тусклое помутненив слева внизу. Это зеркало шкафа. Почему-то, оно всегда заявляет о себе снизу.
Постепенно темнота выдыхается, становится прозрачной, как чернила, разбавленные водой. Мало-помалу выступает мир вещей. Теперь их видно всех. Они стоят молча, но живые, и с напряженным вниманием смотрят на нее, как бы ожидая услышать то, чего давно ждут. И ей кажется, что еще чуть-чуть, еще некий рубеж преодолеется, и все они стряхнут оцепенение, и она узнает главное, что не дано знать человеку. Ведь они находятся по ту сторону бытия. Ах, если б вещи могли говорить, если б можно было спросить у них…
Прошел кахетинский поезд. Его дробный звук доноситься сверху, будто град стучит по крыше. Полотно железной дороги проложено высоко по склону горы и, днем, когда смотришь из сада, что неподалеку, создается впечатление, будто вагоны движутся прямо по крышам.
Уже бесспорное утро, но Анна не встает. Еще успеется, торопиться некуда.
Темнота сломлена окончательно. Она расползается по углам и стелется там, как дым, когда в трубу задувает ветер. Только она не пахнет. Впрочем, нет — пахнет. 3атхлостью одиночества, холодом отрешенности, бессилием старости.
Если бы молодостъ знала, если бы старость могла…
Когда услышала она впервые эти слова? Их часто повторял Давид. Но произносил он их с беспечностью и неведением молодости.
Вот на пол легла серая полоса. Это еще не теплая желтизна солнечного луча. Это шершавая безликость предрассветных сумерок. Час вкрадчивый и лукавый, сулящий неведомое, но не ответственный ни за что. Вероломный зыбкий час надежд и тревоги.
С улицы ритмично доносится скребущий, царапающий звук. Асмат, курдянка, подметает улицу. Она всегда начинает раньше всех, чтоб успеть подмести два участка. У Асматнедавно умер муж, а на руках семь душ детей и старый свекор, который уже три года лежит и ждет смерти. А смерть ошиблась и забрала сына. Смерть тоже иногда ошибается.
…Не иногда, а довольно часто, слишком даже часто. Вон в доме наискосок в позапрошлом году хоронили русского мальчика. Ему не хотелось в детский лагерь, он ждал отца, чтобы вместе с ним поехать к морю. Отец-офицер уговаривал: «Нечего тебе печься в этой жаре! Лагерь военный, питание хорошее, порядок, спорт-городок. Вернешься через месяц, возьму отпуск, махнем в Сочи!» Мальчик согласился, поехал. А вернулся не через месяц — через день. Автобус перевернулся на крутой горной дороге. У гроба отец — небритый, с обвислыми щеками и мертвым взглядом все повторял: «Вова, Вова, ведь это я послал тебя! Я сам!».
Вместе с думами об Асмат, о русском мальчике и его отце вползает и развертывается другой мир — мир людей. Фантасмагорический мир хрупких связей, ненадежных отношений, дутых величин, мнимых ценностей, слов, лишенных смысла, и дел, зыбких, как слова.
Вот уже зашевелились, возятся за стеной, торопливо пробираются по улицам, фаршируют собою трамваи, автобусы, поезда. И воображают, что это реальность. И говорят и поступают так, будто верят в какой-то смысл своих действий и разговоров.
Но Анна знает, что это игра, очень искусная, а может быть, бессознательная игра, в которой каждый обманывает всех. И Анна ждет, без нетерпения или злорадства, а просто в силу необходимости, что вот минует заданный срок, упадет последняя минута, и все рухнет и рассыплется в пыль и прах.
Она-то знает, что так бывает, и ее только удивляет, что другие этого не понимают.
Гигантская, неумолимая игра, запущенная неизвестно кем, неведомо для чего. И ей тоже приходится играть, хотя роль ее в этой игре незначительна. На другую она и не претендует. В этом ее преимущество, ее свобода.
Улица уже звучит отдаленными звонками трамваев, голосами зеленщиков, молочников, продавцов керосина иземли для цветов. Да, теперь пора вставать, теперь уже началось вторжение дневных призраков в ночную реальность, и это вторжение не отразишь ничем. Его можно только переждать. Так в древности, укрывшись за стенами замка, в стороне от торных дорог, можно было переждать прохождение орды варваров.
Анна выходит из дому. Направо — пекарня, на параллельной улице овощная лавка, еще за квартал — гастроном. Надо обойти их все, надо отстоять в очередях, надо отсчитать деньги и получить сдачу, сложить все в сумку. Это — ее участие в игре, уклониться от него она не может. Игра охватывает всех.