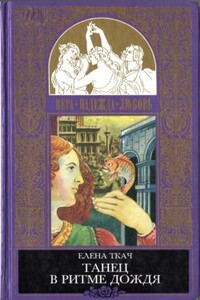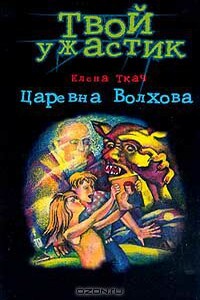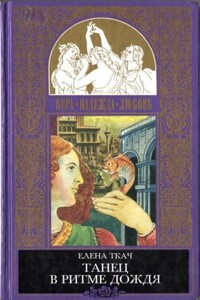«Неужели я сейчас сниму сапоги, лягу и вытяну ноги? Кажется, пассажиров мало и вагон полупустой. Только бы в купе мужчин не было — опять это напряжение… А с меня хватит. Устала.»
Мысли вспыхивали вяло и словно бы неохотно. Она едва держалась на ногах от усталости — эта стройная молодая женщина. И все же привлекала к себе внимание. Что-то было в её облике… порода? Утонченность? Устремленность какая-то… Она привычно пряталась от назойливых взглядов, кутаясь в пуховый платок, накинутый по-боярски поверх изящной меховой шапочки. Куталась и улыбалась тихонечко. Про себя.
На екатеринбургском перроне падал снежок, засыпая ясный морозный полдень, предновогоднюю суету, багаж, улыбки и прощальные поцелуи.
— Давайте ваш билет.
Моложавая напомаженная проводница возвестила посадку.
«Как в тумане все… Сейчас наверно будет тепло. И мы с тобой, Ларион, сомлеем, задремлем… завтра до-о-ма…»
Она почти засыпала. Утомительная гастрольная поездка — этакий балетный чес по трем городам Урала, слава Богу, была позади. А впереди — Володька и Новый год!
Небольшой, но вместительный импортный чемодан, пакетик с едой, — она втаскивала их на подножку небрежно, не боясь поцарапать чемоданову кожу, все внимание было поглощено чем-то, старательно прикрытым полой енотовой шубки.
— Так, кажется здесь!
Дернула дверь купе — никого. Тишина. Тепло…
— А вагон и в самом деле пустой. Вот радость-то!
Она как-то сразу очнулась, встрепенулась и хихикнула озорно. Все ещё пряча взгляд.
Долой платок, шапку, шубку!
Ах, вот оно что — под полою был кот. Довольно-таки толстоватый кот, весь белый, с шоколадной мордочкой, лапами и хвостом, с задумчивым мечтательным взглядом и явно своенравным характером.
Чемодан — туда. Пакетик — сюда. Села! И отдернула занавеску. И мысленно попрощалась со всеми тремя городами, в которых принимали её.
Только вот главный балетмейстер екатеринбургский — такой приставучий! Но хороший. Бедняга — недавно инфаркт перенес. Ох, какие же там пельмени в этом бывшем Свердловске, в угловом ресторанчике! Особенно с этой… как её там? С лосятиной. Смешно сказать — для них я столичная штучка. Звезда! А какая уж там звезда, если сольную вариацию станцевать — это событие… А так — двоечки, троечки. Ларион, как наш ранг прежде в балетной иерархии назывался? — она погладила кота и вздохнула. — Правильно, корифейка. Сольных партий нам с тобой не дают. А па-де-де… — снова вздохнула, когда же в последний раз в Москве танцевала? Вроде полгода назад. Вставное из первого акта «Жизели».
А, какие наши с тобой, Ларион, годы! Двадцать восемь мне, да два тебе — на двоих тридцатничек. Для жизни не так уж много, а для балета… Ха-ха! В театре я десять лет. Уже десять. Ну не всем же, Ларик, этуалями-то бывать!
Она щелкнула зажимом заколки и тряхнула головой. Чуть рыжеватые — явно от хны — темно-каштановые волосы рассыпались по плечам. Плотный свитерок. Эластичные брючки-леггинсы. В ушах — золотые сережки-гвоздики, на безымянном пальце — обручальное кольцо. Ничего лишнего, ничего необычного, едет себе в вагоне усталая молодая женщина, для которой спокойствие и комфорт важнее всего…
Но до чего ж она была хороша! Какая порода в чертах, какой взгляд, хоть и прикрытый полуопущенными ресницами, хоть и маскируемый под приличную нашим будням покорность судьбе! Какой ясный высокий лоб — и сила за ним, и дума… А глаза! Высверки авантюрина — да это жалкая суета природы по сравнению с их влажным исполненным бездны сверканьем! А осанка, а поступь… да, что там! Однако все это было в ней будто сознательно приглушено, как бы задрапировано… Словно бесценные дары женственности ей хотелось укрыть от любопытных глаз — укрыть до поры в тени иной своей ипостаси — той, что позволяла выстоять в битве за хлеб насущный.
Ну вот, наконец сняла сапоги, вот и достала тапочки…
— Интересно, Ларион, может ли быть такое, что мы тронемся и останемся тут вдвоем, а? — Она выглянула в окно. — Снежок! Вокзал белесый от инея. А вот фонарик странный какой… Светится как лампадка, посмотри-ка, Ларион, да?
Она почесала кота и тот замурлыкал. Взглянула на часы.
— Ой, через три минуты уж отправляемся. И так хорошо закачает нас, и задергает, и полетит путь-дороженька к дому… Хочешь домой? Умаялся? Ах, ты… Сам понимаешь, на Володьку я оставить тебя не могла. Вечно он на работе своей пропадает, а тебя ведь кормить надо. Почесывать! Вот так, вот так… И знаешь, Ларион, честно говоря, я чего-то там, дома, не понимаю. Что-то нехорошее там творится. Или…
Дверь купе резко дернулась. Вся в снегу, раскрасневшаяся, расхристанная, сюда ворвалась толстенная тетка. Резкие канавки морщин разделяли её лицо на несколько секторов — губы, щеки и все остальное. Губы прорезаны тонкой ниточкой, щеки взбухшие и мясистые, нос совершенно неопределенной формы. И хороший простой твердый лоб.
— Ох! — задыхаясь, она с разлету бахнула об пол свою неподъемную дерматиновую сумку с растрескавшимися ручками. — А я уж думала — опоздаю!
Толстуха повернулась и, нагнувшись, продемонстрировала сидящей в купе свой необъятный зад, обтянутый синими тренировочными штанами с лампасами она была в короткой куртке. Пятясь и шевеля этим весьма выразительным задом, она принялась затаскивать в купе ещё два громадных баула, подобная спасателю, изо всех сил тянущему утопающего из проруби.