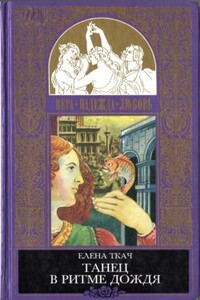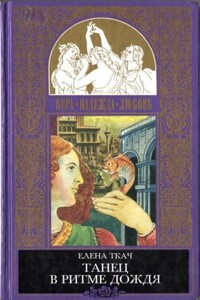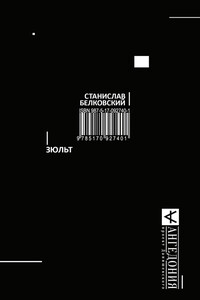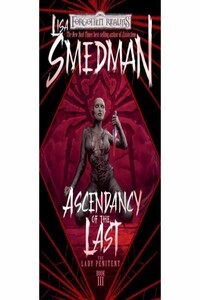Полдень дремал в знойном июльском мареве, когда в проеме ворот, выводящих к старым аллеям Новодевичьего кладбища, показались двое. Чуть согбенный высокий сухой старик в темном костюме и его пожилая спутница, которая несмотря на жару носила блузку со стоячим воротничком, заколотым агатовой брошкой у самого горла.
Они брели медленно, с явным усилием. Но держались так, словно каждый их шаг в раскаленном и отравленном гарью воздухе был несомненной победой. Они шли, улыбаясь. И если б не возраст, — а был он более чем преклонным, их вполне можно было принять за влюбленную пару.
Старик шел, изредка поправляя на переносице очки в тонкой оправе и рассеянно глядя по сторонам. Он слегка помахивал зонтом с деревянной полированной ручкой, порой опираясь на него как на трость, и заботливо поддерживал под руку свою спутницу. Он был с нею так чуток, так бережно старался предугадать каждый жест её, каждый шаг, как будто она в такой заботе чрезвычайно нуждалась. Но она…
Прямая, чуткая, беспокойная… Старухой не назовешь — язык бы не повернулся, да и весь облик её такой вольности не дозволял. Тонкая рука то и дело взлетала, стараясь пригладить прядь, выбившуюся из гладкой прически. Взлетала и опускалась. И пальцы продолжали прерванное движение, словно разговаривали друг с другом. Они все время двигались — её пальцы. А глаза, детски распахнутые, ясные и голубые, — они были совсем молодыми. Глаза цвели, и взгляд их бы таким открытым, доверчивым, что иному обладательница этого взгляда могла показаться наивной, если б не мудрый высокий лоб, не твердо сжатые и совсем не дряблые губы… Если бы не достоинство и покой в чертах. Покой… О, какое великое слово!
Они двинулись вдоль кирпичной стены и, пройдя немного, остановились. С высоты своего надгробия в спины им глянул Константин Сергеевич Станиславский и вся его гвардия — те, кто творили легенду Художественного театра. А перед ними лежал черный тяжелый камень, чуть скругленный, шероховатый… На нем два имени.
— Ну вот, опять! — она, протестующим жестом оттолкнула руку своего спутника. — Не надо было сюда приходить.
— Но, Неточка? Почему?
— Ты как китайский болванчик с этой своей идиотской улыбкой… И что за упрямство такое — зачем ты приводишь меня сюда?
— Ну, Неточка, мне кажется, ты и сама не против. А? Разве не так? Разве тебя не тянет к нему?
— Я его ненавижу!
Она вырвала свою руку, которую он старательно удерживал обеими руками, и принялась рыться в сумочке. А он при этом заглядывал ей в лицо и улыбался.
— Ну вот! Ты плачешь, — сообщил он ей с таким видом, будто был чрезвычайно рад этому обстоятельству.
— Да. Плачу. А ты этого ждал? Ну, сущий поганец! И скажи, наконец, чего ты от меня хочешь?
— Видишь ли… Я хочу, чтобы ты перестала ругаться.
— Никогда не перестану! — она взглянула на него с вызовом. — И ты, Кока, это прекрасно знаешь. Я не могу понять человека, который в жену кидается горящим примусом и целится в неё из браунинга. Не могу, и ничто его не оправдывает! Понимаешь, есть вещи, которых понять и простить нельзя, если уж человек так высоко поднял планку!
— Неточка, но он же был болен тогда!
— Ну, конечно, ты и морфий оправдываешь! Да, я знаю, — она наконец достала из сумочки носовой платок и высморкалась. — Он в этом не виноват. Ну, почти… Но зачем, скажи мне, Кока, зачем он написал это жестокое, это немыслимое посвящение? Посвящение другой — Белозерской, которое показал Тасе! Жене, которая вынесла вместе с ним весь ужас, который он описал… А потом сказал, что эта другая будет жить с ними вместе. Втроем! Потому что, ей видите ли, жить негде… Он же этим убил Тасю, убил наповал!
— Ну, положим, это не так. Она прожила очень долгую и достаточно благополучную жизнь…
— Не тебе судить!
— Но его-то ты судишь!
— Потому что люблю! Ты это хотел от меня услышать? Так вот, добился своего! Все водил, все ходил вкруг да около, все бормотал свое, бормотал… теперь радуйся. Люблю! Но простить не могу. Не могу простить ему эти дикие, эти бесчеловечные выходки, которые не только его не достойны, — они не достойны мало-мальски…
Она осеклась. Присела на корточки перед памятником и погладила его прохладную неровную поверхность. Потом коснулась розового и наивного цветка бегонии — эти меленькие цветы окружали надгробие. Цветок слегка закачался, потом затих. Какая-то птичка порхнула в ветвях дерева, стоявшего над черным камнем. Села на засохшую ветку и, оглядевшись, снялась и пропала.
— Прости меня… — тихо сказала. Встала. — Никого в жизни не осуждала, а тебя… — она махнула рукой и, согнувшись, покачивая головой, пошла прочь.
— Нета! Нета, постой! — её спутник поймал её локоть. — Ты угадала. Я ведь не просто так…
— Да? — она ожила и взглянула на него с надеждой. — Ты снова что-то задумал? А, Коля?! Я так и знала! — она вздохнула с явным облегчением. Только давай все же уйдем. Мне тяжело тут… возле него.
— Нет, погоди. Дело в том… я и вправду задумал кое-что очень хорошее. Понимаешь?
Он замолчал, и темные его глаза, — пронзительные и так глубоко посаженные, что глядели как из пещеры, — его глаза загорелись мальчишечьим азартным огнем, а все лицо точно озарил отблеск пламени — оно разгорелось.