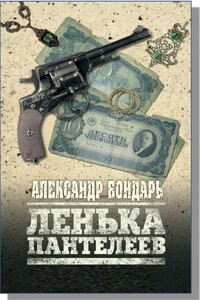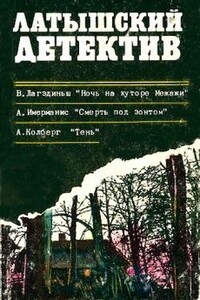В тот день я проснулся как обычно — в восемь. Потушив назойливо тарахтевший будильник, послушно оставил тёплую, согретую за ночь постель. Позавтракав яичницей без колбасы и чаем без сахара, я подумал о том, что послезавтра — политкружок, и я уже никак не успею подготовить доклад о бедственном положении трудящихся в Индии.
Большие часы на городской башне тяжело стукнули половину девятого, когда я вышел из подъезда своего дома на улице имени крови, пролитой расстрелянными коммунарами. Не прошло и двадцати минут, как я, пройдя через площадь, имени пули, убившей Кирова, взял автобус и доехал до улицы имени печки, в которой окончил жизнь Сергей Лазо. Здесь в большом сером здании находится бюро по организации обслуживания контор по обслуживанию работников обслуживания, где я и работаю.
Как только я вошел внутрь, то сразу понял: что-то произошло. Наша штатная гардеробщица Вера Семёновна посмотрела на меня как-то не по обычному. Но она ничего не сказала, а я не стал спрашивать. Войдя в свой кабинет, увидел нашего бухгалтера Петра Ивановича Скрепкина, который всегда приходил раньше меня. Скрепкин поднял глаза и. не сказав ничего в ответ на мое «доброе утро», посмотрел на меня молча и коротко — с каким-то брезгливым любопытством, после чего снова уткнулся в свои бумаги.
Я присел за стол и только достал папку, как вдруг увидел начальника отдела. Тот вошел в кабинет своей обычной ровной походкой, выдающей в нем отставного военного. Посмотрев на меня внимательно, он начал без предисловий:
— Если вы ещё не в курсе, то этой ночью ваша сестра была арестована органами НКВД. Сегодня в пять-десять состоится общее собрание коллектива. Что вы должны делать — знаете.
Он повернулся и вышел. А я остался, остался со своими мыслями. Сестру мне было не жаль. Мы с ней никогда не любили друг друга. В прошлом году сестра выскочила замуж за офицера, который был ее старше на десять лет, и с тех пор перестала меня узнавать. Но какой-то безотчетный ноющий страх сдавил душу. Я вдруг представил себе сестру. Ее в наручниках ведут по тюремному коридору, длинному и угрюмому. Гулким, тяжелым эхом отдаются шаги. А потом приходят за мной… Я почувствовал, что вспотел.
Да, я знал, что теперь должен был делать. На прошлой неделе арестовали тёщю заместителя директора Дармоедова. В тот же день Дармоедов прочитал на общем собрании отречение. Он бы, конечно, отрёкся от своей тёщи и без всякого НКВД, но это Дармоедову так и так не помогло — его забрали на другой день. Вернее, на другую ночь.
Посидев так на месте, я поднял глаза и посмотрел на потолок. Мне показалось вдруг, что стены закачались, и потолок, плавно кружась, начал медленно на меня опускаться. Не помню, как я пережил этот день. То и дело смотрел на часы: когда с надеждой, а когда — с ужасом. Порою мне судорожно хотелось остановить время — чтобы вечер этот не наступил никогда. И посмотрев на циферблат, я видел, что минуты пустились в какую-то дикую неудержимую пляску, и мне их уже не остановить. Зато когда я говорил себе если бы сейчас уже было пять часов… если бы этот проклятый день закончился наконец… — стрелки тогда, словно бы подслушав мое желание, останавливались и ползли так медленно, что мне казалось порою — они и не движутся никуда; просто стоят, стоят на месте, стоят, дожидаясь того момента, когда некуда больше уже будет спешить, времени больше не будет, все канет в бездонную пугающую пустоту…
День наконец подошел к вечеру. Я смотрел на часы и не мог в это поверить. Не помню уже, как добрался до большого актового зала, обитого везде красными полотнищами. Там уже все собрались. Сталин тоже был тут. Мертвый, гипсовый, но видящий и слышащий все.
Что я говорил, не помню. Помню только, как оторвался от текста, небрежно-корявым почерком нацарапанного на мятом листке конторской бумаги. Оторвался и увидел, что Сталин смотрит прямо на меня, и глаза его ярко горят зеленым пламенем. Я снова уткнулся в текст, снова забормотал что-то. Но внутри жгло — ни на секунду не отпускал, не давал покоя гипсовый силуэт. Наконец, я не выдержал — снова оторвал взгляд от бумаги и посмотрел на Сталина. Глаза у него по прежнему были зеленые, и он по прежнему смотрел на меня. Я бросил взгляд в зал и, вдруг увидел, что глаза у всех сидящих здесь светятся все тем же матово-зеленым огнем. Я лучше вгляделся: ошибки быть не могло — уже физически чувствовал, как обступив отовсюду, пытались меня лизнуть бледные языки адского пламени. Я посмотрел вниз: пола не было, я стоял на весу, опираясь ногами о воздух, чудом каким-то удерживаясь, чтобы не провалиться в широко раскрытую пасть горячей, полыхающей бездны.
Не помню, как дочитал до конца. Помню тишину в зале: казалось, все, затаившись, ждали чего-то. Засунув в карман измятый и вспотевший листок, я быстро спустился со сцены и пошел в коридор. Там было тихо; словно минуту назад случился конец света, и все уже умерли. Только в вестибюле картинные Ленин и Сталин громко кричали друг на друга, размахивая при этом руками. Казалось, сейчас они подерутся. Карл Маркс с противоположной стены, смотрел на меня, не отрываясь. Он не говорил ничего, но взгляд его, полный сатанинской ненависти, давил мне затылок. Накинув пальто, я вышел наружу.