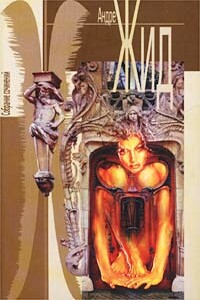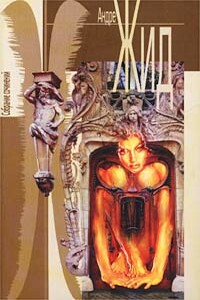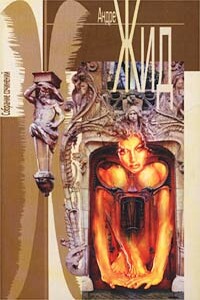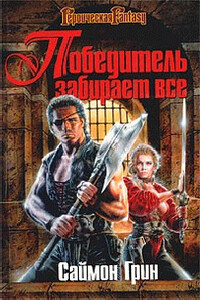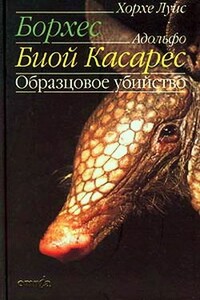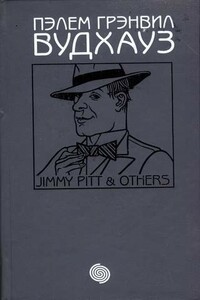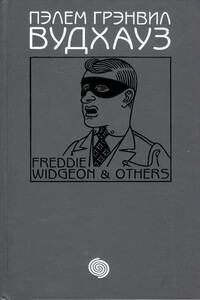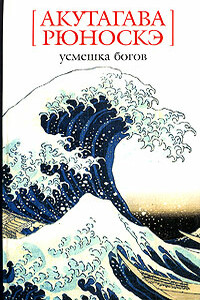Сударь!
Хотя моим первым чувством при чтении Вашего «Урока женам» было возмущение, я никогда не позволил бы себе сердиться на Вас лично. Вы сочли нужным предать гласности интимный дневник женщины, дневник, который она никогда в жизни не согласилась бы вести, если бы знала, какая ему будет уготована участь. Сейчас пошла мода на исповеди, бестактные откровения, при этом во внимание не принимается материальный или моральный ущерб, который может быть нанесен этими откровениями людям, еще живущим; не принимается также во внимание и дурной пример, который эти откровения подают. Дело Вашей совести — решать, действительно ли Вам надо было содействовать изданию этого дневника, который столь приятен для постороннего человека, и, издав его под своим именем, извлечь из этого славу… и деньги. Вы, вероятно, ответите, что моя дочь просила Вас об этом. Ниже я скажу, что я думаю о ее поведении. С другой стороны, из Ваших собственных признаний я знаю, что Вы охотно придаете больше веса мнению молодых людей, чем мнению их родителей. Это Ваше право, но в данном случае мы видим, к чему это ведет и к чему это может привести, если, не дай Бог, вашему примеру последуют другие! Но хватит об этом.
Возможно, я Вас очень удивлю, если скажу, что не я один отказываюсь узнать себя в этом непоследовательном, тщеславном, незначительном существе, карикатурный портрет которого изобразила моя жена. Как говорили древние, протестовать — значит признать, что оскорбление достигло цели. Даже если бы оскорбление и задело меня, только я один знал бы об этом, ибо мое имя ни разу не было названо. Я говорю все это исключительно для того, чтобы Ваши читатели поняли, что вовсе не потребность в реабилитации заставляет меня взяться за перо, а только стремление к истине, справедливости и точности.
Если выслушан только один свидетель, мнение судей складывается более легко, но при этом и более несправедливо, нежели после выступлений нескольких свидетелей с противоречивыми показаниями. После того как Вы поставили свое имя под «Уроком женам», я предлагаю Вам «Урок мужьям»; я обращаюсь к Вашему профессиональному достоинству с призывом опубликовать в качестве опровержения той книги в таком же оформлении и с такой же рекламой следующий ответ.
Но прежде чем перейти к существу вопроса, хочу обратиться к порядочным людям. Я спрашиваю их, что они думают о девушке, которая сразу же после смерти своей матери захватила ее личные бумаги еще до того, как муж смог с ними познакомиться? Помнится, Вы где-то писали, что порядочные люди наводят на Вас ужас, и Вы, конечно, приветствуете дерзкие поступки, в которых Вы можете видеть влияние своих доктрин. В бесстыдной смелости, проявленной моей дочерью, я вижу печальный результат «либерального» воспитания, которое моей жене угодно было дать нашим двум детям. Я виноват в том, что по привычке, боясь проявить деспотизм и ненавидя споры, я уступил ей. Споры, которые у нас по этому вопросу возникали, были крайне серьезными, и я удивляюсь тому, что не могу обнаружить и намека на них в ее дневнике. Я еще вернусь к этому.
Однако не думайте, что я буду останавливаться на всех тех моментах, где повествование моей жены мне кажется неточным. В частности, на некоторых инсинуациях, касающихся моего патриотического мужества и поведения во время войны. Впрочем, Эвелина, видимо, не отдает себе отчета в том, что сомнения в заслуженности моей награды, по сути дела, означают дискредитацию авторитета или компетентности командования, которое сочло меня достойным ее. Действительно ли я произнес слова, которые она цитирует? Честно говоря, я так не думаю. Или если я и произнес их, то не тем тоном и не с той интонацией, которые она злорадно им приписывает. Во всяком случае, я этого не помню. И я не обвиняю ее в свою очередь в том, что она сознательно исказила мой характер. (Я ни в чем ее не обвиняю.) Но я думаю, что с определенной долей предвосхищения (о котором англичане так удачно говорят, что оно не наносит ущерба), мы искренне слышим от других то, что мы хотим от них услышать, и в какой-то мере мы добиваемся от них слов, которые нашей памяти даже не придется впоследствии искажать.
С другой стороны, я очень хорошо помню, что я испытывал, когда Эвелина дошла до такого состояния, что мои слова — что бы я ни говорил — вызывали у нее только одно чувство: она видела в них исключительно ложь.
Но, как я уже сказал, я отнюдь не намерен защищать себя. Я предпочитаю в свою очередь просто поделиться своими воспоминаниями о нашей совместной жизни. В частности, я расскажу о тех двадцати годах, которые она в своем дневнике обходит молчанием. Передо мной стоит тяжелая задача, ибо, когда я пишу, мне кажется, что над моим плечом склонился настороженный читатель, подстерегающий малейшее слово, в котором проявится мое «коварство», «двуличие» и т. д. (именно этими словами пользовались критики). Однако, если я буду слишком усердно следить за тем, что пишу, я рискую неправильно изобразить свое поведение и тут же попасть в ловушку жеманства, несмотря на то что я пытаюсь ее избежать… Задача не из простых. Мне кажется, что я добьюсь успеха только в том случае, если не буду о ней думать, не буду сдерживать свою мысль, если мой ответ будет спонтанным и я не буду принимать во внимание ни то, что могла сказать обо мне Эвелина, ни то, что могли подумать обо мне читатели. Разве я не вправе хоть немного надеяться на то, что читатели поступят так же: то есть, прочитав мой ответ, они не выскажут слишком предвзятого суждения?