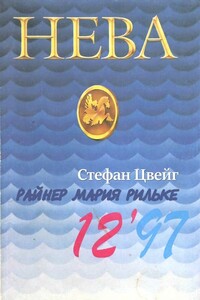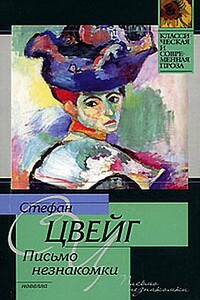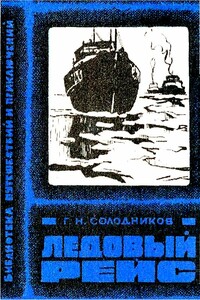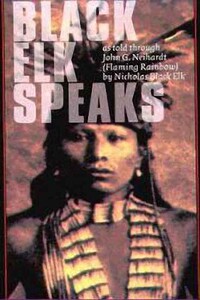Лекция
Дамы и господа!
Сегодня и в последующие дни вы услышите на лекциях много интересного о произведениях любимого нами поэта Райнера Марии Рильке[1], введение к этому циклу лекций и мне самому кажется излишним и, пожалуй, претенциозным. Но, вероятно, все же я имею некоторое право взять здесь слово, у меня на это есть дорогая мне и одновременно очень прискорбная привилегия: я один из немногих в вашей стране, а возможно, даже единственный, кто лично знал Рильке, поэтическое же явление полностью никогда не понять, если одновременно с интересом к произведениям поэта не возникнет интерес и к его личности. И подобно тому, как в книге часто тексту предпосылается портрет автора, я, с вашего разрешения, перед циклом лекций о Рильке попытаюсь дать представление о некоторых чертах характера так рано ушедшего от нас поэта.
Чистый поэт в наше время редок, но, вероятно, еще более редок чистый, совершенный образ жизни поэта. И тот, кому дано было счастье увидеть в человеке гармонию его творчества и личной жизни, тот обязан сообщить об этом нравственном чуде своему, а вероятно, и последующим поколениям. Я имел возможность много лет часто встречаться с Райнером Марией Рильке. Мы вели с ним интересные беседы в разных городах, я храню его письма ко мне, у меня — его драгоценный подарок — рукопись самого замечательного произведения поэта «Песнь любви и смерти»[2]. Но я не решился бы сказать вам, что был его другом, ибо дистанция между нами, обусловленная глубоким уважением к нему, была огромна, а слово «друг» на немецком языке означает более глубокие, более интимные отношения, чем английское слово «friend». Немецкое слово более емко, так как определяет самую внутреннюю привязанность, привязанность, которую Рильке редко кому дарил, — вы можете увидеть, что в своих письмах он употребил это слово всего два-три раза. И это очень характерно для него. Рильке болезненно стыдился высказывать, проявлять свои чувства. Он предпочитал скрывать свое «я», свою индивидуальность, и сейчас, мысленным взором всматриваясь в тех многих людей, с которыми я за всю свою жизнь встречался, я не могу вспомнить ни одного, кому удалось бы внешне остаться таким незаметным, как Рильке.
Существуют поэты, которые, защищаясь от суеты окружающего мира, скрываются под маской высокомерия, суровости. Существуют поэты, которые, полностью погружаясь в свое творчество, совершенно отключаются от жизни, становятся недоступными окружающим, — Рильке нельзя было отнести ни к тем, ни к другим. Он встречался со многими людьми, он бывал во многих городах, но защитой ему была его абсолютная незаметность, он обладал не поддающейся объяснению способностью не привлекать к себе внимание. В поезде, в ресторане, на концерте он ничем не выделялся. Он носил простейшую, но очень чистую, со вкусом подобранную одежду, он избегал всякой атрибутики, которая свидетельствовала бы о его принадлежности к цеху поэтов, он не разрешал помещать в журналах свои портреты — все это для того, чтобы сохранить для себя свою личную жизнь, чтобы остаться человеком среди других людей, он хотел наблюдать людей, а не быть объектом их наблюдений. Представьте себе какое-нибудь общество в Мюнхене или Вене, где за общей беседой сидят десять, двадцать человек. Входит приятный мужчина, выглядит он очень молодо. Характерно уже то, что его появление проходит совершенно незаметно. Вошел он неожиданно, может быть, пожал кому-то руку, и вот сидит он сейчас со слегка опущенной головой, чтобы скрыть глаза, эти удивительно ясные и одухотворенные глаза, они одни только и способны выдать в нем поэта. Руки обнимают колени, сидит он тихо, прислушивается к разговору, но позвольте мне утверждать: никогда я не видел более внимательного, более причастного к разговору слушателя. Он был олицетворением внимания, а если и вступал в разговор, то говорил так тихо, что его красивый глухой голос был едва слышен. Никогда он не горячился, никогда не пытался кого-либо переубедить, склонить на свою сторону, а, почувствовав, что его слушают слишком многие, что он оказался в центре внимания, он сразу же замолкал. Настоящие беседы с ним, такие, которые запоминаются на всю жизнь, удавались лишь тогда, когда мы были вдвоем, на улице чужого города или в доме, лучше — вечером, когда сумерки несколько скрывали его. Сдержанность Рильке ни в коем случае не была проявлением высокомерия, ни в коем случае — робостью, и ничего не может быть более ошибочным, чем считать его невротиком, ущербным человеком. Он мог вести себя непринужденно, говорить обычным образом с обычными людьми и даже быть оживленным. Но все громкое, грубое было ему непереносимо. Общение с шумным человеком было для него мучительно, любая фамильярность, любые проявления преклонения вызывали на его лице выражение робости, страха, и было удивительно наблюдать, как он, с одному ему присущей способностью, сдерживал особенно фамильярных, успокаивал особенно шумных, делал скромными особенно самонадеянных. Там, где он был, как бы возникала очищенная атмосфера. Я думаю, в его присутствии никто не решился бы сказать неприличное, грубое слово, ни у кого не достало бы мужества поделиться литературой gossip