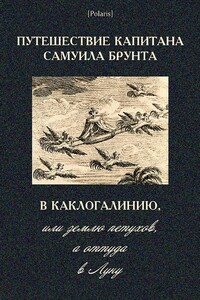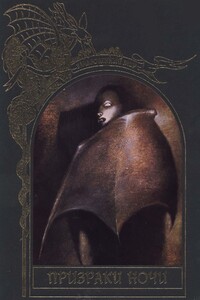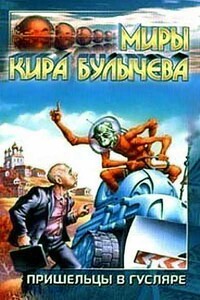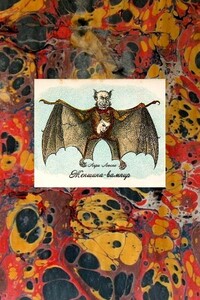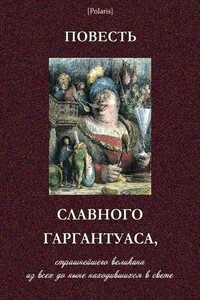ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА САМУИЛА БРУНТА
Описывающие нам о своих путешествиях подают прежде всего о фамилии своей обстоятельные известия, в которых не упускают хвалиться древностью своего рода или, по крайней мере, превозносить добродетели своих предков; но как читатель не имеет в том почти ни малейшей нужды, то я правило сие оставляю, почитая оное с моей стороны бесполезным, да еще и смешным. Скажу же только, что родителей моих лишился я в самых младых летах и воспитан был у деда с матерней стороны, который в городе Бристоле между довольно знатными гражданами почитался и который, как скоро достиг я тринадцати лет, сделал меня купцом с тем, чтобы я купечеству научился.
Первые два раза ездил я в Ямайку, но при том не случилось со мной ничего особливого; в третий же раз отправился я в Гвинею и Ямайку, куда прибыл благополучно. Но как там происходила война, и находившиеся со мною на корабле люди крайне опасались, чтобы их не захватили, то выступило нас на берег только двенадцать человек, также и я, несколько к восточной стороне у Порто-Маурато, откуда намерились мы идти в Порте-Реал пеши. Не чая попасться в какую опасность, не взяли мы с собою никакого оружия. Но спустя с час по выступлении нашем вдруг увидели себя сорокью Арапами окруженными, кои все вооружены были и, не проговоря ни слова, по нас выпалили, осьмерых застрелили, а прочих ранили, причем и мне попала в правую руку пуля.
Видя, с каким успехом по нас выстрелили, бросились они к нам с топорами; и хотя мы их о помиловании просили, однако они оставшихся моих четырех товарищей порубили немилосердным образом.
Равную же судьбину испытал бы и я, если бы предводитель сих убийцов не удержал топора, вознесенного уже над моею головою; он удержал руку моего неприятеля, сказав: «Не умерщвляй его, пускай он останется жив». Я не знал, чему надлежало приписать сие человеколюбие, и сохранение моей жизни произвело во мне не менее удивления, сколько радости.
После сего отрубили они товарищам моим головы и понесли их с собою на горы; я же, окружен будучи ими со всех сторон, пошел с ними.
Дорогою терзался я жесточайшими размышлениями, жалел о погибели моих товарищей и стократно проклинал свою судьбину, для чего даровавший мне жизнь Арап поступил со мною столь человеколюбиво; воображал себе, что, конечно, оставлен я был для претерпения мук гораздо несноснейших, нежели смерть самая или, по крайней мере, сохранен я для того, чтоб женам и детям сих убийцов служить игралищем. Но защитник мой, приметя мое смущение, подошел ко мне и сказал: «Не печалься, друг мой! ты, конечно, меня не знаешь?» Я посмотрел на него со вниманием и вспомнил, что он у приказчика моего, который на сем острове имел селение и жил издавна, был невольником. Он бегал от него дважды, и в бытность мою в первый раз в сем селении пойман он был и приговорен к положенному там на беглецов наказанию, чтобы подрезать у него пятки; однако хозяин его отменил оное по моей просьбе, и велел его только высечь.
Я спросил у него, не Куфеем ли его зовут и не был ли он у такого-то человека невольником? «Меня зовут Куфеем, — сказал он, — однако я теперь не Баккараро[1], а человек вольный. Ты не допустил подрезать у меня пятки; за то и я не допустил отрубить у тебя головы. Пожалуй, не бойся ничего».
Он старался всячески утешить меня в моих злополучиях; однако воображение мое, что и меня также умертвить намерены, было столь сильно, что никакое утешение не могло меня ни мало успокоить.
Мы шли очень тихо, как по причине великого солнечного зноя, так и за тяжестью добычи, ими полученной; ибо каждый нес на себе множество дичины и других съестных припасов.
Около трех часов пополудни пришли мы в одну деревню, в которой все беглые Арапы жили и где приняли нас с великою радостью. Женщины пели, плясали и били в ладоши; мужчины же нанесли с собою моббию ируму, их напитки, чтобы за здравие возвратившихся выпить и их тем попотчевать. Один из Арапов спрашивал у Куфея, для чего он привел меня живого, а не принес лучше моей головы. На то сказал он ему такое, чем он, казалось, был доволен; однако представлял ему, сколь опасно, что Белый человек или Баккараро узнал про их жилище, и что он объявит о том Старшине своему Фоме, дабы получить на то какое повеление.
Куфей сказал ему, что он сам Старшине расскажет, что при бывшей сшибке происходило, и отведет меня к нему. Все сие мог я разуметь, понеже они оба по-Аглински говорили. Итак, друг мой, пошед к Старшине своему Фоме, повел и меня с собою. Старшина сей был сединами покрытый старик по крайней мере лет в семьдесят пять, собою велик, крепок, виден и ростом локтя в три с половиною. Сидел он на возвышенном на поларшина от земли месте и имел вокруг себя стариков с десять, которые табак курили.
Куфей, показавшись пред него, пал ниц, а руки привел к голове; потом встал, подошел к нему с великим почтением и отдал ему на Холомантеанском языке отчет в положенных на него делах. Как скоро окончал он речь, то принесены туда головы моих товарищей и положены к ногам Старшины, который ответствовал Куфею коротко, дал ему рулю табаку, велел сесть и выпил за его здоровье.