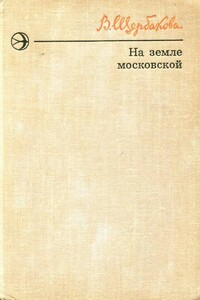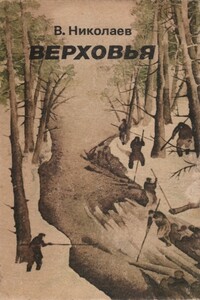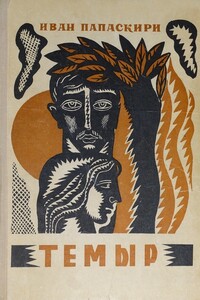Печка-печурка… Малиновым жаром налиты бока, гудёт-свистит этот жар в трубе, языками веселыми пыхает в прорези дверцы. И живое тепло колеблет портянки, и становятся они лубяными, и пахнут подгорелой подвальной картошкой. А руки, широкие и тяжелые, будто лопаты, руки узкие и худые, мосластые, руки изработанные, измученные холодом, тянутся, тянутся к самому жару, и вот уже зашевелились вослед и крепкому слову, и молчаливой мысли. Еще маленько — и могут шомполом вынуть пороховой нагар из ствола автомата; еще немножко — и пуговку расстегнут на желтой от пота и стирок мужских гимнастерке; еще чуток — и нитку пошлют в ушко непослушной иголки. Ну, а ложку держать над парящим теплом котелка — это вовсе простая наука.
Костер-костерок… голубое, зеленое, рыжее пламя…
За спиною мороз трещит насквозь простуженной веткой, застывшего воздуха льдинки растирает в шершавых своих рукавицах, дышит за ворот подбитой рыбьим мехом шинели. А на обветренных лицах блики огня напряженно играют, и в повлажневших глазах рушатся малые села и городские дома рассыпаются прахом. Это поленья, угли память солдатскую будят. Наплывает волнами тепло, обнимает усталое тело, и тогда начинают мерцать издалека луговые костры босоногого детства, и заветный костер на лесной земляничной поляне, будто в вечности, отраженный в зрачках задумчивой лайки…
Но приказано было ночью перед атакой не зажигать огней, ждать в снеговых траншеях.
Небо с землей перед рассветом совпало, чтоб на него легкой и скорой была дорога павшему смертью храбрых. Спрятались звезды: одним снова слагать неизменные знаки на небе, падать другим на солдатские обелиски. Спрятались, ибо летучая, будто мгновение, красная вспыхнет звезда и осыплется искрами в души. Атака!
Тысяча душ разом в снегах запылает, тысяча страхов, что больно и тайно точили, в этом рывке нечеловеческой воли до времени канут. Скорбные брови жены, пепел ее волос поредевших, сына лицо с цыплячьим пушком на щеках; дочери губы, поспевшие для поцелуев верного парня, очи любимой, тихие, будто озера, очи, глядящие мудрой печалью, знанием первым, когда в животе колыхнется жизни теплый росточек, гибкий стан далекой невесты, шепот ее, обжигающий рот, груди ее, зрелой упругостью налитые, матушки взгляд прощальный из-под платка, дрожь морщинок в боренье одновременном скорби и благословляющей сына улыбки — все промелькнет с первым мучительным шагом. Тысячи связей, тысячи нитей порвутся с ревом, со стоном, беззвучно, чтобы опять сомкнуться или концом звенящим издалека ударить, незаживаемые раны вырезать в бьющемся сердце…
Так в предрассветной сини думали три солдата.
Думали розно — каждый был особливым, каждый когда-то вышел в свою дорогу. Одному кукушонок в дверце часов прокуковал начало. Ходики, дернув гирей, время сказали другому. Третьего акушерка шлепнула, чтоб залился перворожденным криком. И носил один усищи, прокуренные махрою, и было его лицо шадроватым от оспы, и руки его наждаками шершавыми, в неотмывной насечке пыли железной, в рукава не влезали. У второго в чертах еще не поблекли юности краски, лишь на висках, под глазами зрелость отметила тени, и отвердел подбородок, словно камень под ветром. Третий был вовсе мальчик с пухлыми губами, только в межбровье врубилась острым трезубцем складка да в глазах удивленье с ненавистью сошлось.
Думали одинаково, ибо не спросит пуля, сколько тебе от роду, кто тебя дома ждет. Ибо у печки вместе руки и спину грели, в пламя костра глядели и на троих по-братски ставили котелок. Ибо в атаку рядом шли под ливень смертный, и над ними всеми матерь-столица наша в благословении руки простерла. Ибо у всех единой родина-страдалица, родина-непокорница в каждой кровинке была.
Тихо судьба вставала на кривом порубежье бруствера ледяного, никому не грозя. Но осторожный шорох босоногой судьбы услышав, трое решили строго:
— Всякое может быть.
Каждый поклялся другому:
— Ежели так случится, что дойдет до победы только один из нас, — пусть за троих доработает, пусть за троих долюбит, пусть за троих допоет.
I
Шпалы, шпалы — по землям чужим, по своей по вешней земле. Это дни убегают назад, сосчитай их попробуй. И не скоро еще под горячим светилом, пробудившим зеленые травы на продавленной танком дороге, и листву и цветы на обугленных ветках деревьев, нет, не скоро еще оттает, застучит размеренно сердце.
Обелиском труба печная скорбит над могилой избы, над могилою малого мира, что в бревенчатых в лапу рубленных стенах когда-то начинался, творился и был, и в открытые окна глядел, и через прохладные сени выходил для большого работать. И российская церковь на взгорке к небу прибита гвоздями вражьих снарядов, и глазницы ее пустые все еще кровенеют ночами от неизбывной муки.
Улицы городов, которые издали мнятся детскими кубиками, разбиты, раскиданы кованым сапогом. Сломаны, как соломины, трубы заводов усопших, стены огнем оплавлены, вздыбились, ограждая чугунную пыль пустыря. И в этих руинах лопата, лом и кирка прокладывают начало, метят пути возвращения, руки, голые руки краеугольный камень, как в колыбель ребенка, бережно в прах кладут.




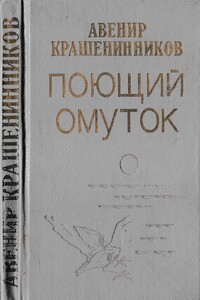

![Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/storage/book-covers/50/5099923d5c370c2aaa3affd65b45816be6d98cd3.jpg)