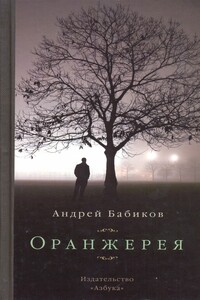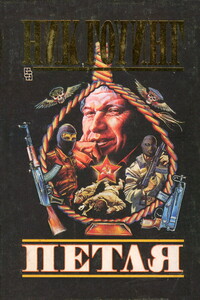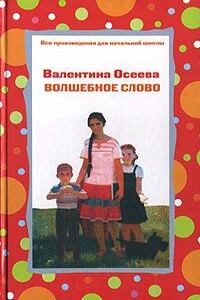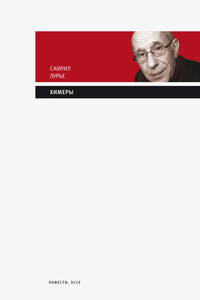ABSENTEREO[1]
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Несколько лет тому назад мне случилось проводить зиму в Нью-Йорке, где я занимался архивными изысканиями по своей — довольно узкой — филологической специальности. Поиски одного частного письма, в котором я надеялся добыть нужные мне сведения, которые, в свою очередь, должны были пролить свет на некоторые странные обстоятельства, связанные с судьбой волновавшего меня тогда писателя, завели меня в отдел редких книг и рукописей Публичной библиотеки.
Смотритель отдела, рыжебородый великан в зеленом свитере и просторных вельветовых штанах, говоривший с заметным канадским акцентом, можно сказать, в лепешку разбился, чтобы помочь мне найти искомое. Бормоча, как заклинание, фамилию русского писателя, чье драгоценное письмо мы разыскивали, он грузно взбирался по ступеням приставной лестницы то в одном, то в другом конце зала, снимая с высоких полок вместительные короба с рукописями. В конце концов он сдался и слегка покачал головой тем сдержанным жестом, какой заменяет воспитанным американцам русский символ бессилия (широко разведенные в стороны руки) и каким меня уже не раз провожали смотрители других отделов библиотеки. Напоследок он позволил себе предположить, что именно та порция корреспонденции, в которой могло быть нужное мне письмо, попала к частному коллекционеру или оказалась в каком-нибудь университетском архиве.
Поблагодарив его за старания, я уже собрался было покинуть библиотеку, чтобы перекусить в тесной кондитерской неподалеку, когда он, нацелив на меня толстый указательный палец, задал нелепый в своей очевидности вопрос.
«Вы ведь русский, не так ли?»
«Да, верно», — ответил я, останавливаясь в дверях.
Он поскреб свою заросшую густой бородой щеку — я бы сказал, в нерешительности, если бы это слово не спорило с его внушительной комплекцией и медвежьей повадкой, — и с надеждой в голосе продолжил:
«Тогда вы, возможно, захотите взглянуть на это».
Я вернулся к его захламленной всякой бумажной всячиной конторке. Кроме нас двоих и дремавшего над Диккенсом азиатского студента в углу, в зале никого не было. На пластиковой карточке, висевшей на груди смотрителя, под уменьшенной фотографической копией ее бородатого обладателя было написана «Гавриэль Томпсон».
«Это довольно странная история», — сказал Гавриэль.
Он достал из ящика стола плотный желтый конверт и вынул из него пачку потрепанных листов.
«Что это?» — спросил я его без особого участия.
«Роман, я полагаю. Русский роман. К сожалению, моих познаний в вашем языке недостаточно, чтобы сделать вывод — хороший это роман или нет. Его забыли в моем отделе больше четырех, нет, уже пяти лет назад — вон на том столе, где лежат словари, — и до сих пор о нем никто не справлялся. Я все ждал, что за ним кто-нибудь придет, даже повесил объявление в холле, но этого не случилось. Ни подписи, ни фамилии автора нет. Не нашел я в нем и никаких особых указаний, вроде „Нашедшего эту рукопись просьба связаться с профессором Растяпой с острова Манхэттен". Это не совсем по правилам, но, если хотите, можете взять его себе, и сами решите, что с ним делать. Что скажете? Пусть это будет некоторой компенсацией за то письмо, что мы так и не отыскали».
Сказав это, Томпсон страшно оскалился, изображая улыбку.
Я из вежливости усмехнулся его шутке, пожал плечами, но рукопись взял.
В тот день мне еще надо было успеть в несколько мест, и к вечеру, когда я вернулся к себе в гостиницу на Лексингтон-авеню после академического ужина с коллегой-филологом, я успел об этом таинственном романе забыть. Не столько потакая старой привычке, заведенной еще в студенческие годы, сколько желая опробовать гладкость нового блокнота в переплете из поддельной марокканской кожи, купленного мной накануне в книжном магазине на Бродвее, я присел за шаткий столик у окна и составил обстоятельный план завтрашних дел, после чего принял душ и взобрался на кровать: американские гостиницы тем дороже, чем выше кроватные матрацы. Вспомнив, что у меня в сумке осталась коробочка мятных леденцов от кашля, я полез за ней и наткнулся на желтый конверт. На нем синими чернилами было крупно написано: «Оранжерея». Это несколько экзотичное название мне ничего не говорило. Заранее почти убежденный в том, что произведение это — какой-нибудь жалкий вздор, вроде тех, до бесцветной жижи разведенных «мемуарных» писаний, в которых ни амура, ни муара, или — хуже того — популярного ныне многословного «психологического» чтива, что является как бы беллетризованной формой соответствующих разделов женских глянцевых журналов, это самое чтиво и вдохновляющих, я все же из филологической щепетильности решил пробежать несколько страниц подаренной мне рукописи, прежде чем швырнуть ее в мусорную корзину.