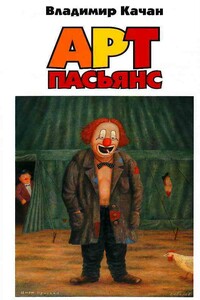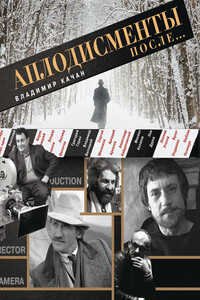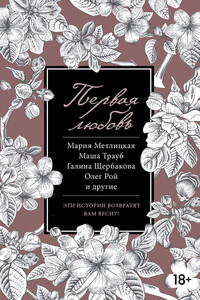«Гули, гули, гули!!» – одинокий женский вопль звучал по утрам в колодце двора. Таким голосом зовут на помощь, кричат «пожар» или «караул», а она звала голубей. Хотя, в определенном смысле, это, наверное, было правдой: она действительно звала на помощь, осатанев от одиночества, которое разбавлялось только лишь обществом птиц, ненадолго меняющих помойку на другую трапезную – ее подоконник. Она, может, и не звала бы голубей по нескольку раз в день, но хотелось быть нужной хоть кому-нибудь. Хоть кого-нибудь покормить. Жить одной, когда тебе за сорок, неуютно, а временами и больно. Когда было больно, Катя кричала «гули-гули» требовательно и гневно, осуждая птиц за то, что они не летят сразу, не ценят ее внимание, ее заботу, не понимают, что их хотят вместо гнилых отбросов покормить экологически чистыми крошками или семечками. Еще хуже было то, что, поев всего хорошего на Катином подоконнике, они неизменно возвращались обратно к помойке и там сыто и похабно курлыкали, приступая к своим брачным играм.
«Ну совсем как все почти мужчины, – думала Катя, сползая постепенно в своих умозаключениях к агрессивному феминизму. – Те вот тоже, сколько их ни корми, ни ласкай, сколько ни заботься – все равно хотят на помойку. Вот там им милее всего!»
Такие философские обобщения – от голубей до всего гнусного мужского племени – посещали Катю чуть ли не каждый день и приносили злорадное удовлетворение. Гнев и досада на голубей набирали обороты и превращались в гнев на весь несправедливый мир и на мужчин, которые проходят по жизни мимо и не желают замечать одинокую и все еще привлекательную женщину, которая могла бы их осчастливить. Но все равно каждое утро она кормила голубей.
Когда бессонная ночь на сиротской постели доставала Катю окончательно, она включала телевизор с утренними новостями, однако и там череда если не ужасов, то неприятностей во всех уголках земного шара настроения не прибавляла. Плюнув на сон, она шла на кухню и ставила на плиту чайник. Пока закипала вода, она крошила вчерашний хлеб, распахивала окно, и каменный мешок двора, обладавший великолепной акустикой, принимал в себя первый утренний Катин крик: «Гули-гули-гули!!!» И если учесть, что этот призывный клич, это, казалось бы, невинное приглашение к завтраку, звучало в шесть утра, то, конечно, соседи были в бешенстве. Ее выручало только то, что никто не хотел специально встать в шесть утра, одеться и пойти посмотреть, кто с такой вопиющей бесцеремонностью нарушает покой, кто будит, кто позволяет себе такое антиобщественное поведение. Естественная утренняя лень соседей пока спасала Катю от возмездия. Но долго так продолжаться не могло. Всякое терпение имеет предел, и не сегодня завтра у кого-нибудь из жильцов оно могло лопнуть.
Кате было сорок, и, несмотря на то, что была она на пять лет моложе, популярную поговорку «В сорок пять баба ягодка опять» заранее ненавидела. Уж кем-кем, а ягодкой она себя никак не ощущала. Уже давно, подходя к зеркалу, Катя заранее брезгливо морщилась. Узкое нервное лицо и непропорционально большие глаза, вечно наполненные тревогой. Глаза, которые все время ждут, что обидят или ударят.
«Что смотришь, тварь дрожащая? – говорила Катя каждое утро своему отражению в зеркале, выжимая пасту на зубную щетку. – Слишком низкая самооценка мешает нормально жить. Вот есть такие собачки, – продолжала она издеваться над собой, – которых и собачками-то называть трудно. Они меньше кошки. Ножки то-о-оненькие, как хрупкие веточки, и дрожат, когда их опускают на землю. По земле им ходить на трясущихся ножках трудно. Они панически озираются по сторонам и, едва успев справить нужду, снова прячутся за пазуху к своей хозяйке. Эти хозяйки обычно называют себя мамами. Приходит хозяйка такой собачки домой, предположим, с работы, но вернее – из косметического салона, и с порога кричит что-нибудь вроде «Жужа! Жуженька, иди встречать маму, мама пришла! Сейчас будет тебя кормить, мою маленькую! Иди скорей сюда, мамочка тебе гусиного паштетика принесла!» Тьфу, зараза! Хоть бы мне кто-нибудь принес гусиного паштетика…» Катя воображала себе эту картину и была не просто близка к истине – она ее знала, видела однажды в одном богатом доме. После кормления такую собачку наряжают в теплый тулупчик и выводят гулять. Точнее, выносят. И там, на улице, собачка на подламывающихся ножках идет под кустик писать или какать. И потом – быстро за пазуху к хозяйке. Мордочка и большие, черные, испуганные глаза таких собачек в сочетании с полной неспособностью нормально, уверенно ступать по земле – все последние годы намекали Кате на ее с ними внешнее и внутреннее сходство. Ей тоже очень хотелось к кому-нибудь за пазуху, в теплое безопасное место, подальше от жестокого мира, который мог легко растоптать и даже не заметить этого. Но не было человека, не было пазухи! Не бы-ло!!