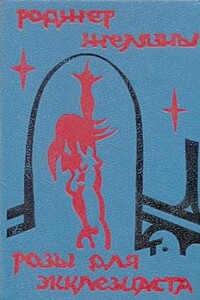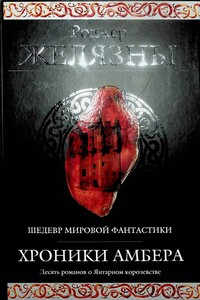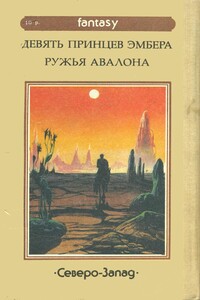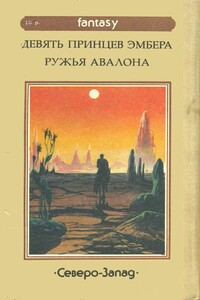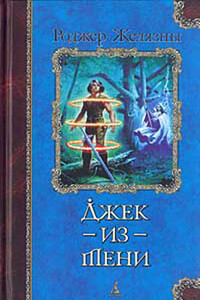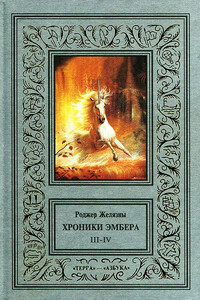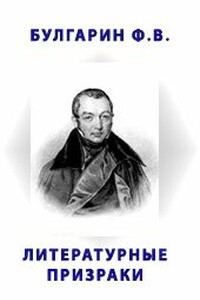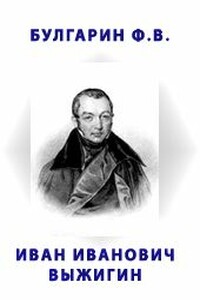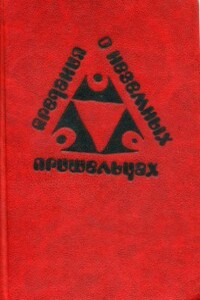Еще на Земле пожилой профессор, читавший нам философию — скорее всего, в тот день ой что-то перепутал и принес с собой не тот конспект, — вошел в аудиторию и внимательно оглядел всех нас, шестнадцать человек, обреченных на жизнь вне Земли. Осмотр длился полминуты. Удовлетворенный — а удовлетворенность эта сквозила в его тоне, — он спросил: «Кто знает, что такое человек?»
Он прекрасно понимал, что делает. У него в распоряжении оказалось полтора часа: их необходимо было как-то убить. А одиннадцать из шестнадцати все-таки были женского пола (девять занимались гуманитарными науками, а две девицы были с младших курсов). Одна из этих двух, посещавшая лекции по медицине, попыталась дать точное биологическое описание человека.
Профессор (я вспомнил его фамилию — Макнит) кивнул в ответ и спросил: «Это все?»
За оставшиеся полтора часа я узнал, что Человек — это животное, Способное Мыслить Логически, он умеет смеяться и по развитию выше, чем животные, но до ангела ему далеко. Он может посмотреть на себя со стороны, на себя, наблюдающего за самим собой и своими поступками, и понять, насколько они нелепы (это сказала девушка с курса «Сравнительных литератур»). Человек — это носитель культуры, он честолюбив, самолюбив, влюбчив… Человек использует орудия труда, хоронит усопших, изобретает религии. И тот, кто пытается дать определение самому себе. (Последнее мы услышали от Пола Шварца, моего товарища по комнате. Его экспромт мне понравился чрезвычайно. Кем, думаете, Пол потом стал?)
Как бы то ни было, о многом из сказанного я думал: «возможно» или «отчасти он прав» или «просто чепуха!». Я до сих пор считаю, что мое определение было самым верным, ибо потом мне представилась возможность проверить его на практике, на Tierra del Cygnus, Земле Лебедя… Я сказал: «Человек — сумма всего, что он сделал, желая того или не желая, и того, что он хотел сделать, вне зависимости от того, сделал он это или нет».
Остановитесь на мгновение и поразмыслите над моей тирадой. Она намеренно такая же общая, как и остальные, прозвучавшие в аудитории, но в ней найдется место и для биологии, и для способности смеяться, и для стремления вперед, для культуры, любви, для наблюдения за собственным отражением в зеркале и для определения человеком самого себя. Если присмотреться, то я оставил лазейку даже для религии. Но нельзя не признать, что мое определение чересчур всеобъемлюще. Оно, в известной степени, применимо и к устрице… Разве нет?
Tierra del Cygnus, Земля Лебедя — очаровательное название для планеты.
Да и сама эта планета — место очаровательное, правда, за некоторыми исключениями. Здесь я стал свидетелем того, как определения, написанные мелом на классной доске, исчезают одно за другим, пока не остается одно-единственное — мое.
…А в моем радиоприемнике все чаще потрескивали разряды статического электричества И больше ничего. Пока ничего.
В течение нескольких часов не поступало других признаков надвигающейся бури.
Мои сто тридцать «глаз» наблюдали за Бетти все утро, предшествовавшее погожему, прохладному весеннему дню, потонувшему в солнечном свете, сочащемуся медом и вспышками зарниц над янтарными нивами, текущему по улицам, заполняющему витрины магазинов… дневном свете, уносящем остатки ночной сырости с тротуаров и красящем в оливковый цвет набухшие на ветках придорожных деревьев почки. Этот яркий свет, от которого выцвел когда-то лазурный флаг перед мэрией, превратил окна в оранжевые зеркала, рассеял пурпурные и фиолетовые тени на склонах гряды Святого Стефана, раскинувшейся в тридцати милях от города, и спустился к лесистому подножию холма, будто сумасшедший художник выкрасил это море листвы в разнообразные оттенки зеленого, желтого, оранжевого, голубого и красного.
Утреннее небо на Земле Лебедя окрашено в кобальт, днем приобретает оттенок бирюзы, а закат — рубины с изумрудами, твердый и блистающий, как ювелирное украшение. Когда кобальт побледнел, покрываясь туманной дымкой (наступил тысяча сотый час местных суток), я поглядел на Бетти своими ста тридцатью «глазами» и не увидел ничего стоящего внимания, ничего, что предвещало бы последующие события. Только непрекращающийся треск помех в радиоприемнике аккомпанировал фортепиано и струнным.
Смешно наблюдать, как мозг персонифицирует и превращает мысли в образы. В кораблях всегда подразумевалось женское начало. Можно, например, сказать «Добрая старая посудина» или «быстроходная штучка», похлопывая ее по фальшборту, и ощутить ауру женственности, которая плотно облегает ее формы, и наоборот — «чертов драндулет!» или «будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!», когда у вашего автомобиля отказал двигатель. Ураганы — тоже женщины, впрочем, как луни и моря. С городами дело обстоит по-другому. Они, вообще говоря, бесполые.
Никому в голову не придет сказать о Сан-Франциско «он» или «она».[1] Но иногда, тем не менее, они носят атрибуты того или другого пола. Этим отличаются на Земле, например, портовые города Средиземного моря. Не исключено, что причиной тому — бесполые имена собственные, бытующие в данном округе, но, в любом случае, имя расскажет вам больше о жителях, чем о самом городе. А вообще, мне кажется, все гораздо сложнее.