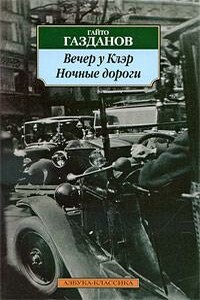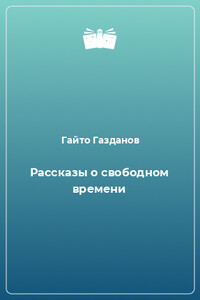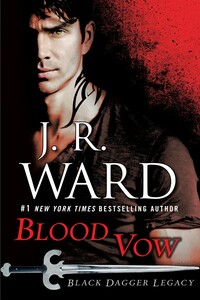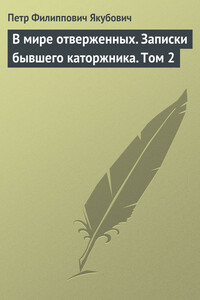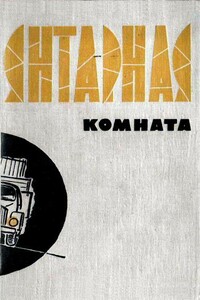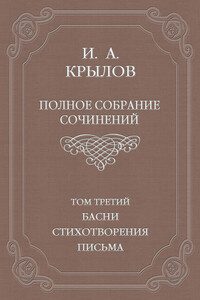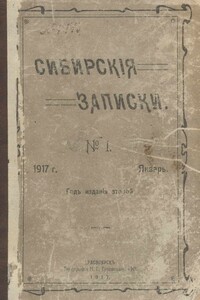Общество восьмерки пик[1]
Я проснулся на мглистом рассвете
Неизвестно которого дня.
А. Блок[2]
Их судьбу им предсказал еврей с длинной бородой и чудовищными красными руками. Белки его глаз были хронически воспалены; по профессии он был хиромантом и волшебником, и на двери легендарного домика, в котором он жил, было написано:
«Я вам открою ваше будущее. Исаак Сифон».
И Исаак Сифон рассказал им их судьбу. Они пришли к нему все вместе: Вася Моргун, фантазер и фальшивомонетчик, Боря Вертуненко, независимый, рисовальщик Вова, гимназистка Алферова по имени Джэн, польский поэт Казимиров, актер Баритонов, содержательница музея восковых фигур Марья Гавриловна Сироткина, которую называли Маруся-упади, и ученик пятого класса реального училища по прозвищу Молодой.
— Я вам могу рассказать каждому отдельно, что вы имеете делать, — сказал Исаак Сифон. — Но как я хорошо знаю ваши расходы, то я скажу всем зараз. Если вы хотите, так вы можете сесть.
— Есть такое дело, — сказала Джэн. Они сели. Сквозь желтую слюду окна слабо проходил свет, пыльные тетради были навалены на полу, в комнате пахло мускусом; громадные белые свечи призрачно пылали в сером воздухе. Исаак Сифон рассмотрел их ладони и сердито поглядел на Джэн, слишком медленно снимавшую перчатки. Потом он поставил небольшую кастрюльку на спиртовую лампу, что-то кипятил, вздыхал и бормотал по-еврейски. Маруся-упади, понимавшая этот язык лучше, чем остальные, испуганным шепотом перевела:
— Он говорит: какое время, какое время! — Лучше бы вы не родились, — сказал им Исаак Сифон. — Вы, может, объясните мне, зачем вы родились?
— От вашего имущества останется только дым и обломки, — сказал он дальше, обращаясь к Марусе. — Господин скульптор, — он посмотрел на рисовальщика Вову, — вы будете голодовать вашу жизнь. Барышня, — Джэн вздрогнула, — вы можете пропасть с вашей красотой, в этом я вас предупреждаю. Не смотрите на меня с улыбкой, — это он сказал Молодому, — мы с вами больше не увидимся.
— Вы имеете дело, — продолжал Исаак Сифон. — Так вы не думайте, что это хорошее дело. Что я вам могу посоветовать? Есть такая линия в вашей судьбе, так было бы лучше, чтобы ее не было. Это линия преступления. Вы ее можете разорвать без совершенного усилия, вы только должны сказать сами себе: до свиданья, дорогие товарищи, потому что если мы останемся вместе, то даже Исаак Сифон нам не поможет.
* * *
— У нас нет времени, чтобы поверить Исааку Сифону, — сказал Вася Моргун.
И так как Вася Моргун пользовался известным авторитетом, потому что неоднократно сидел в тюрьме и никогда не оставался там дольше, чем считал необходимым, то с ним согласились и забыли о предостережении Исаака Сифона.
И в одиннадцать часов вечера встретились, как всегда, в квартире Маруси-упади. Звонили у двери, на которой вместо визитной карточки была прибита восьмерка пик. Маруся подходила и спрашивала:
— Кто там? Отвечали:
— Нас восемь.
Квартира Маруси была устроена как-то так, что стульев, например, там не было, стояла только одна вертящаяся табуретка. Были ковры, низкие диваны, подушки, опять ковры. Гости не сидели, а лежали. Вася играл на пианино, Вова рисовал неприличные картинки и показывал их смеющейся Джэн и ахающей Марусе. Поэт Казимиров, человек немецкой культуры и славянской беспорядочности, читал наизусть Фауста и Вильяма Ратклифа[3]. Вертуненко, самый ленивый, тихо засыпал под музыку и стихи.
В час ночи Маруся приносила вино и бутерброды. Актер Баритонов, выпив, орал монолог из «Орленка»[4], потом путался и кричал:
— Быть или не быть?[5] Джэн, мы ждем!
И Джэн начинала петь.
Песнь идет так:
она начинается колеблющейся нотой,
медленными, извилистыми, раскачивающимися
звуками,
затем
звенит ровно,
и сдвигает сердце,
и опоясывает его
цепью тоски,
и атласом крови,
и судорожным чувством слез,
и пронзительным ощущением
улетающих призраков памяти.
Потом песнь начинает расти.
Она поднимается,
и скользит,
и трясет потолок,
и долетает до крыш,
и, спускаясь,
доходит
до вышины человеческой груди,
и струится по атласу,
и бряцает цепью.
Так, по крайней мере, пела Джэн.
Обессиленные и вздрагивающие, они лежали на ковре. Из соседней комнаты слышался плач Джэн и запах эфира. Желтели электрические лампы, уступая нарождающемуся рассвету.
И когда возвращалась Джэн, Вася начинал импровизировать. Он закрывал глаза, покачивался и рассказывал истории, которые были тем неожиданнее, чем пронзительнее пела Джэн. Как все фантазеры, Вася чувствовал искусство, захлебывался музыкой и плакал.
— И вот я увидел себя в Египте, — начал Вася. Вова набросал Клеопатру с длинными глазами[6], ласкающую крокодила, мумию фараона в непристойной позе на пирамиде и сфинкса, который подмигивал пустыне и чесал себе лапой затылок. Он рисовал это короткими, быстрыми движениями карандаша и внизу написал:
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.
— Запыленные образы моего прошлого, — говорил Вася, — тонули в медленных волнах Нила, под неторопливой и мудрой жестокостью красного египетского солнца…
За зимними окнами изредка взвизгивали полозья саней. Сомнамбулическое бормотанье, сменявшееся медленным шепотом, беззвучно поглощалось мягкими пространствами ковров и диванов. Люстра с матовыми стеклами освещала лежащие на полу тела: черная тень Васи падала в кресла и бесшумно скользила по стенам.