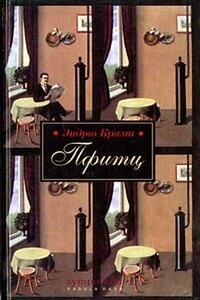I. Человек, который говорил о роковых датах
Последний раз я видел Карлоса Карбальо, когда он, со скованными за спиной руками, втянув голову в плечи, неуклюже влезал в полицейский фургон, а бегущая строка на экране сообщала о причинах ареста – покушение на кражу суконного костюма, принадлежавшего одному давно покойному политику. Эти мимолетные кадры по чистой случайности попались мне на глаза в выпуске вечерних новостей, между назойливыми заклинаниями рекламы и спортивной хроникой, и я еще подумал, что из многих тысяч телезрителей, разделивших со мной этот момент, я один, не кривя душой, могу сказать, что нисколько не удивился. Действие происходило в доме Хорхе Эльесера Гайтана, ныне превращенном в музей, где каждый год полчища туристов желают вступить в краткий и неполноценно-заместительный контакт с самым знаменитым политическим преступлением в истории Колумбии. В этом костюме Гайтан был 9 апреля 1948 года, в тот день, когда Хуан Роа Сьерра, молодой человек, испытывавший смутное влечение к нацизму, флиртовавший с сектами розенкрейцеров и временами разговаривавший с Девой Марией, дождался его у выхода из резиденции и средь бела дня, при всем честном народе, запрудившем эту столичную улицу, с нескольких шагов четырежды выстрелил в него. Пули продырявили пиджак и жилет: и главным образом ради того, чтобы взглянуть на эти темные пустые кружочки, приходят в музей посетители. Карлос Карбальо, как можно предположить, был одним из них.
Произошло это во второй вторник апреля 2014 года. Судя по всему, Карбальо явился в музей около одиннадцати и несколько часов кряду то кружил по дому, как дервиш в трансе, то стоял, склонив голову набок, перед томами уголовного права, то смотрел документальный ролик, запечатлевший горящие трамваи и неистовую толпу, размахивающую мачете: эти кадры крутили целый день беспрерывно. Дождавшись, когда уйдет последняя группа посетителей – подростки в школьной форме, – он поднялся на второй этаж, где в застекленной витрине вниманию публики представлен был костюм, надетый Гайтаном в день своей гибели, и несколько раз ударил в толстое стекло кастетом. Ухватил плечо темно-синего пиджака – но больше ничего сделать не успел: прибежавший на гром и звон охранник направил на Карбальо пистолет. Злоумышленник только тогда заметил, что порезался осколками, и начал, как бродячий пес, лизать костяшки пальцев. Впрочем, он не выглядел растерянным или испуганным. Молоденькая телеведущая в белой блузке и шотландской юбке высказалась по этому поводу так:
– У него был такой вид, словно его застигли за расписыванием стены.
На следующее утро все газеты упомянули о неудавшемся ограблении. И столь же дружно, сколь и неискренне, удивлялись, что Гайтан и спустя шестьдесят шесть лет продолжает вызывать столь сильные чувства, а иные бессчетное количество раз сравнивали его гибель с убийством Кеннеди – в минувшем году исполнилось ровно полвека этому событию, но его завораживающий эффект не ослабел ни на йоту. И, как если бы об этом нужно было напоминать, все говорили о том, какие непредсказуемые последствия породило преступное деяние – народные протесты перевернули город вверх дном, рассаженные на крышах снайперы стреляли беспорядочно и бессмысленно, и страна на несколько лет оказалась в состоянии войны. Одни и те же сведения передавались повсюду, с добавлением таких или сяких оттенков, с бóльшим или меньшим нагнетанием страстей; иногда они сопровождались фотоснимками, на которых остервенелая толпа, только что линчевавшая убийцу, волочит его полуголое тело по мостовой Седьмой карреры[1] к президентскому дворцу, однако нигде, ни в одной газете, нельзя было найти пусть хоть самого диковинного и нелогичного объяснения истинных причин того, почему нормальный вроде бы человек решил проникнуть в охраняемое помещение и силой присвоить простреленную одежду покойной знаменитости. Никто не задал этот вопрос, и Карлос Карбальо постепенно стал изглаживаться из нашей запрессованной памяти. Колумбийцы, ошеломленные повседневным насилием, от напора которого не успевали даже пасть духом, дали этому безобидному человеку исчезнуть, как тень. Никто больше не думал о нем.
О нем-то – хотя не только о нем – я и собираюсь рассказать. Не могу утверждать, что хорошо знал его, но была между нами определенная степень близости, доступная лишь тем, кто когда-то пытался друг друга надуть. Тем не менее, принимаясь за это повествование (а оно, как можно предвидеть, выйдет одновременно и пространным и неполным), я должен буду сначала упомянуть о человеке, который нас познакомил, ибо все случившееся после обретет смысл лишь в том случае, если описать, при каких обстоятельствах вошел в мою жизнь Франсиско Бенавидес. Вчера, шагая по тем местам в центре колумбийской столицы, где происходила часть событий, о которых я намереваюсь поведать, и стараясь в очередной раз удостовериться, что ничего не упустил в этой мучительной реконструкции, я вслух спрашиваю себя, как же это вышло, что мне стало известно такое, чего лучше было бы не знать: как же так получилось, что я столько времени думаю об этих мертвецах, живу среди них, разговариваю с ними, выслушиваю их жалобы и в свой черед жалуюсь, что ничем не могу облегчить их страдания. И диву даюсь, что все началось с нескольких слов, которые вскользь произнес доктор Бенавидес, когда приглашал меня к себе. В тот миг я счел, что соглашаюсь уделить ему сколько-то времени потому лишь, что однажды, когда мне пришлось туго, он-то своего для меня не пожалел, то есть мой визит будет проявлением ответной любезности, одним из пустяков, переполняющих наше бытие. Я не мог предвидеть, до какой же степени ошибался тогда, ибо случившееся в тот вечер запустило некий ужасный механизм, и, быть может, остановить его под силу только этой книге – книге, написанной во искупление злодеяний, которые я хоть и не совершил, но унаследовал.