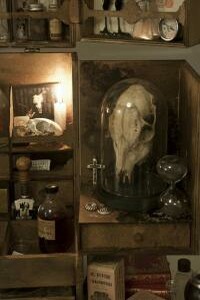Неведомый гений написал когда-то на фронтоне Дельфийского храма: γνωθι σεαυτον ("познай себя"), – гений же потом и объяснил грекам таинственный смысл этой надписи. Сократ первый увидел в ней глубочайшую загадку о человеке и первый догадался, что в решении этой именно загадки должна заключаться вся полнота человеческой мудрости. Он сделался горячим проповедником своего открытия, – говорил о нем везде, где только мог говорить, и всем, кто только хотел его слушать. Из его собеседований греки услышали, что он – мудрейший из афинян, по суждению оракула – решительно отвергает в отношении себя справедливость этого суждения и считает себя голым невеждой; потому что, по его глубокому убеждению, пока не решена великая загадка о самом человеке, всякая наука и всякое знание могут служить только выражением ученого невежества. Но среди всех других ученых невежд Сократ все-таки резко выделялся тем, что он вполне понимал, в чем заключается истинная мудрость, и с любовью стремился к ее достижению. Это была в нем такая выдающаяся особенность, что он счел возможным через нее именно определить свое положение в афинском обществе[1]. В отличие от всех других учителей, гордо считавших себя настоящими мудрецами (σοφιστης), он присвоил себе скромное наименование любителя мудрости (φιλοσοφος) и первый ввел в употребление слово φιλοσοφια с значением специального термина.
Сократ думал, что благо человека заключается в самом человеке и есть именно сам человек в его человечности. Если же люди ищут блага вне себя самих, то они ошибаются, и если они признают средства жизни за конечную цель ее, то они обольщаются. Весь мир есть совершенное ничтожество в сравнении с человеком, потому что ни за какие сокровища мира нельзя купить того, что составляет существо человека, – нельзя купить живого человеческого духа. Если бы только люди ясно осознали эту непреложную истину, то они, конечно, и попытались бы раскрыть ее в своей деятельности и в этом раскрытии несомненно увидели бы, что действительно ценное в мире вносится в него только самими людьми. Высокое удовольствие такого сознания неизбежно заставило бы их стремиться к полному и всестороннему развитию того, что свойственно человеку по его человечеству, а свойственно ему одно только истинное, доброе и прекрасное. В стремлении к познанию и осуществлению этих совершенств и заключается истинная философия, действительное же знание и осуществление их в жизни составляет подлинную мудрость.
На почве таких размышлений философия ни в каком случае, разумеется, не могла удаляться от практики жизни, потому что эта собственно практика только и служила подлинным обнаружением философского духа[2]. Отсюда для древнего мыслителя быть философом и вести добродетельную жизнь было одно и то же, а потому он и хотел знать одну только философию жизни и безусловно отрицал всякую философию каких бы то ни было умных слов[3]. Он так прямо и заявлял об этом, что суетно слово того философа, который не имеет в виду научить людей добру и удалить их от зла. Ясное дело, что при таком понимании философии, она не могла претендовать на значение положительной науки, потому что она не могла давать человеку никаких положительных знаний. Вся задача ее целиком сводилась к тому, чтобы разъяснить человеку его самого, раскрыть смысл его жизни и создать живое определение его деятельности. В силу же этой задачи своей, философия естественно вращалась более в области идеалов, чем в области фактов, и потому скорее являлась выразительницей нравственного сознания, чем научного. Всецело поглощенные жгучими вопросами жизни многие древние мыслители совсем даже и не понимали самоценности научных знаний и, поскольку не находили в них решения своих собственных вопросов, относились к ним более или менее отрицательно. Даже и о Сократе сохранилось известие, что он с явным пренебрежением относился к натурфилософским умозрениям своих предшественников и современников. Но у Сократа был еще особый мотив для этого пренебрежения. В молодости он слушал многих ученых, и они многому научили его, да только совсем не тому, чего он искал у них, и совсем не так, чтобы их рассуждения можно было признать не пустой болтовней, а выражением действительных знаний[4]. Поэтому для Сократа было совершенно естественно, что он не нашел в онтологии никакого смысла, и по отношению к Сократу нет ничего удивительного, что он устранил онтологические вопросы из области человеческого ведения[5]. Ученики же его пошли в этом направлении значительно дальше своего учителя. Известно, что цинические философы единственной наукой признавали только этику и безусловно отвергали всякую другую науку, как совершенно бесполезную для добродетели[6]. Известно, что глава киренаиков Аристипп с таким же пренебрежением относился даже к математике и все на том же основании, что она не говорит человеку о добром и злом и, следовательно, не имеет в виду и не может научить человека быть счастливым[7].
Само собой разумеется, что такое отношение к области научного знания нельзя объяснять одной только умственной ограниченностью древних мыслителей. Дело здесь вовсе не в ограниченности, а в почве, из которой возникали умственные интересы в точке зрения, под которой развивались они, и в цели, которой они регулировались. Философские интересы возникали в запросах жизни и, в выработке идеалов ее, направлялись к созданию человека; между тем как научные интересы рождаются в запросах мысли и, путем непрерывного удовлетворения возрастающей любознательности, направляются к созданию ученого. Следовательно, ученый не может рассматривать человека в том отношении, в каком хотел бы смотреть на него философ, и философ не имел никаких побуждений рассматривать мир в том отношении, в каком интересуется им ученый. Вот эта самая невозможность и определяла собой существенное различие между положительной наукой и философией, и это именно различие и выражалось резкими крайностями в суждениях Сократа и учеников его. Освобожденные от крайностей, эти суждения выражали собой взгляд не одной только школы Сократа. Их в значительной мере придерживались также и пифагорейцы, и платоники, и стоики. Правда, все они с большим уважением относились к научным занятиям, но лишь потому, что они считали эти занятия необходимым условием и самого возникновения, и развития философских стремлений. По глубокому соображению Платона, не одни только мудрые боги не могут стремиться к приобретению мудрости, потому что вполне обладают ею, но и невежды не могут заботиться о приобретении мудрости, потому что они воображают, будто имеют ее. Следовательно, философами могут быть одни только образованные люди, потому что они только одни способны бескорыстно любить истину, благо и красоту и стремиться к определению этих идей и к развитию человеческой жизни по их содержанию

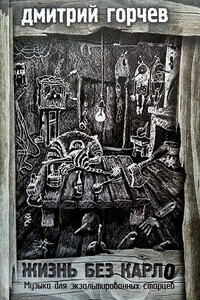
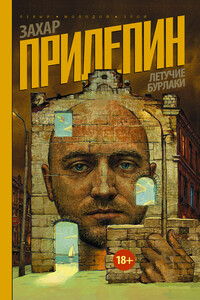

![Государство, религия, церковь в России и за рубежом №2 [35], 2017](/storage/book-covers/ff/ff24ac06e314227f1e5526f1295c105be56c2c10.jpg)