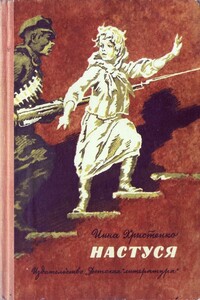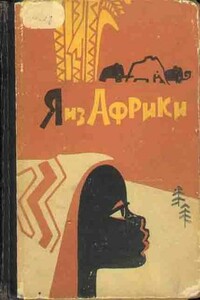Где-то под самым окном захлопал крыльями молоденький соседский петушок. Хрипловатым голосом он оповестил, что горячий летний день начался. Настуся проснулась и, сидя на постели, протирала кулачками глаза. Солнце, как всегда, встало раньше её. Его весёлые лучи давно уже пробрались в хату, проложили дорожку через лавку, через стол и упали прямо на мамины плечи, склонившиеся над работой. Словно желая приветствовать маму, они игриво скользнули по гладко причёсанной голове, по низке кораллового мониста на белой шее и зацепились за никелированное колесо швейной машинки.
Настуся спрыгнула с постели на земляной пол и, как была, в одной сорочке, выбежала во двор. Как же хорошо! Земля под босой ногой тёплая, словно протопленная с вечера печка, воздух чистый и прозрачный, и видно вокруг далеко-далеко! Вон Монастырская гора, покрытая лесом, а вон среди ослепительных песчаных берегов извивается Ворскла, заросшая густым лозняком. А там, за Ворсклой, возвышаются строения, дымят паровозы. Это — станция Полтава-южная, а за нею депо, где работал мамин брат, дядя Осип. Высокий, весёлый, весь пропахший мазутом, появлялся он, бывало, каждый вечер в хате. Не снимая замасленного до блеска картуза, из-под которого выбивается колечко тёмно-русого чуба, дядя Осип присаживается на кончик лавки. Настуся мигом оказывается рядом, потому что знает: сейчас дядя достанет из кармана большую полосатую конфету с кучерявыми концами. От конфеты тоже попахивает мазутом, а на вкус она сладкая.
Девочка вздохнула. Давно уже не приносит дядя Осип конфет. Ещё зимой забрали его жандармы. И все книжки забрали, которые он прятал у себя под матрацем.
Теперь дядя сидит в тюрьме, и неизвестно, когда его выпустят. Каждый раз, как только заговорят об этом, мама печально качает головой, а тётка Марина, с которой дядя Осип даже поссорился из-за тех книжек, прямо краснеет от гнева.
— Так ему и надо! Не слушал, когда его уму-разуму учили… Против власти пошёл… Теперь пускай на себя пеняет!
Тётка Марина тоже иногда даёт Настусе конфеты. Они не пахнут мазутом, потому что тётка сама с дядей Кузьмой делает их для продажи. У неё даже свой ларёк на базаре, полный-полнёхонький всяких сластей. Когда мама с Настусей подходят, тётка каждый раз выбирает пряник, самый маленький и самый чёрствый, сдувает с него пыль и протягивает Настусе.
— Ешь, моя сиротка! — жалобно говорит она и вытирает сухие глаза кончиком фартука.
При воспоминании об этом сморщился чистый детский лобик. Почему она называет Настусю сироткой? Правда, отец Настуси убит на войне, но у неё же есть мама! Вон из хаты доносится тихое журчание её швейной машинки. Это мама быстро-быстро застрачивает узенькие складочки на полосатой ситцевой, со многими оборочками кофте.
Настуся зашлёпала босыми ступнями по земле и с разгона бросилась на постеленную посреди двора рогожку. Лёжа на спине, загляделась в синее небо. Маленькими паучками ползли по щеке солнечные лучи, щекотали ноздри. Что там, в этой бездонной небесной синеве? Где бог? Ведь его всегда рисуют на облаках, а облаков нет. Ничего нет, кроме солнышка, которое всё выше и выше поднимается над землёй. Вишь, как кусается! Девочка накрыла голову краем рогожки… Ага, спряталась! Потом отбросила рогожку, на минутку уставилась глазами в нестерпимо сияющий солнечный диск и снова закрылась. Перед глазами запрыгали жёлтые пятна, потом перешли в зелёные, фиолетовые и вмиг растаяли без следа. Забавно! А ну ещё! Раз! — и открыла рогожку; раз! — и закрылась. И снова! И снова!
— Ты что это, глупая, делаешь? — крикнула соседка через тын. — Ослепнешь!
И скажет же такое! И почему бы она ослепла? Но Настуся всё же притихла и задумалась. Как это, быть слепой? Неужели слепые совсем ничего не видят? Как же это так?..
Неожиданно почувствовала, что хочет есть. Вспорхнула, словно испуганная пичужка, и побежала в хату. После великолепного ясного дня хата показалась хмурой клетушкой. Пузатая печь сердито ощерилась на девочку тёмным зевом. Из угла, где чернели иконы, повеяло сыростью.
Настуся подошла к матери, постояла немного, глядя, как из-под машинной лапки, совсем как живая, выползает простроченная материя.
— Мама, есть хочу! — проговорила наконец, дёргая мать за рукав.
— Вот какая ранняя! — не приостанавливая работы, ответила та. — Ещё и не заработала! Возьми-ка да вдень нитки в иголки, ведь ты знаешь, что я не вижу…
— Сейчас, мама!
Настуся примостилась на лавке возле матери и взялась за знакомую работу. Вскоре добрый десяток иголок с длинными белыми хвостами уже торчал в подушечке на стене. А Настуся ещё раз, уже смелее, напомнила: