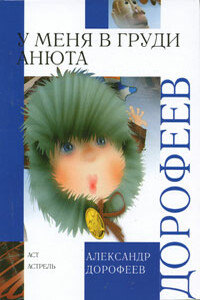Поезд тянулся медленно. Полотно замело. Паровозик выбивался из сил. Протяжный гудок отлетал недалеко и как-то сразу становился меньше — будто съеживался на морозе. Потом он вдруг падал в сугробы между сосен, и снова пыхтел паровоз. Вовка сидел на лавке, в середине, — от окна дуло. Да и что смотреть в окно, когда оно насквозь промерзло? К станции подъехали поздно и неожиданно. Короткий день окончился. Вечер еще не наступил. Люди выскакивали из вагонов и куда-то спешили. Приезжих было мало.
— Ну, вот мы сейчас и пойдем. Тут недалеко — три километра. В дороге-то оно и теплее. Вовка смотрел на своего попутчика, они познакомились еще в вагоне. Старичок натягивал лямку худого вещмешка. Плечо тулупа задевало, и мешок никак не надевался.
— Я вам помогу… — мама потянула руку. — Да, — сказала она, задумчиво оглядевшись.
— Э, не горюй, милая, везде люди живут. Не Москва, конечно, но не пропадешь. Пошли, пошли, чего пригорюнилась. На морозе не больно настоишься. Паровозик последний раз свистнул и начал толкать темные вагоны обратно. Тускло проплыла кочегарка. Повеяло тепло, запахло гарью. Проплыл мимо, шипя и паря, ползун, потом фонарь. Все дальше. Дальше. Вовка шел следом за дедом Тимофеем, а сзади мама с чемоданом и сумкой в руках. Паровоз уже отъехал далеко, только виднелся желтый свет фонаря на лбу и метелка искр из трубы, но что-то глухо отдавалось в воздухе. Это не было похоже на стук колес. Чем дальше отходил паровоз, тем яснее становился гул. То слышались раскаты грома, глухого, басовитого, то сухой треск, какой бывает, когда проведешь палкой по штакетинкам забора. Вовка насторожился и слушал; правда, мешал скрип шагов; но чем дальше отходили от станции, тем громче и громче становился звук. Спереди наползала синяя сопка. И небо над ней тоже было синим и становилось все темней. Уже трудно было различить тропинку на снегу. Дед Тимофей шел, не оглядываясь. Он молчал и только изредка крякал громко и отрывисто. «Спросить бы его, что это значит», — думал Вовка.
— Перекур! — Дед остановился и обернулся: — Не умаялись? Теперь они стояли вровень с сопкой. Вовка снова взглянул в сторону, откуда доносился грохот, увидел оранжевые вспышки на небе. При этом неярком свете на темном фоне выделялись все новые и новые сопки. Они будто шли друг за другом, как горбатые верблюды по снежной пустыне.
— Дедушка, это ведь не настоящий гром, правда? Разве зимой гроза бывает? Не выдержал Вовка. — Я не люблю грозу. Дед усмехнулся:
— Ишь ты! Не настоящий. Настоящий это, ох какой настоящий! Э, милок, время то сейчас какое — грозовое, военное! По всей земле гроза полыхает. А этого грома пусть фашисты боятся, тебе то нечего. Слышишь, как трещит мелко? Во! Будто горох на пол сыплется. А!.. Это пулемет строчит. А вот сейчас ухнет. Вот. Слушай… Во!.. В самый раз! Это пушка. — Дед замолчал. — Это штука. Хорошо палят! Тут недалеко — километров с пяток. Видишь, где полыхает. Там в гору палят. Полигон называется. Прежде чем на фронт отправлять, пушки стрелять учат метко. Испытывают оружье. Там и автоматы есть, только их не слыхать. Далековато. — Дед опять замолчал. Вовке даже как-то теплее стало от этой новости. Он повернулся к маме. Она внимательно смотрела на оранжевые всполохи над горбатыми сопками, заросшими елями. Вовка прижался к маминому холодному пальто, задрал голову и смотрел, смотрел ей в глаза. У мамы были замечательные глаза, по ним Вовка всегда узнавал, когда мама сердится, а когда ей грустно. И сейчас он понял, что маме хорошо, хотя глаза блестели, потому что в них были слезы.
— Ну, будет. Пошли. Еще немного лесом и дома. Сейчас в сельсовет, а там решат, как с вами быть, где вам жить. Дед снова шел впереди изредка крякал так громко, что непонятно было, с какой стороны возвращалось эхо. Лес тоже стал синим, как сопки и небо. Даже черным. Сосны стояли по стойке смирно — молчали. В строю нельзя разговаривать. Володя шел серьезный и притихший. Он слушал гром. Ему даже в лесу не страшно, потому что рядом, совсем близко — добрые сильные люди. Они учат стрелять пушки и пулеметы, чтобы нашим на фронте было легче бить фашистов. Вовка стиснул кулаки, приложил их к груди и даль длинную очередь из автомата: та-та-та-та… за ближними соснами повалились фашисты. Потом он дал очередь по кустам — там была засада. Немцы падали и падали, а Вовка все строчил и строчил. Губы повлажнели и мерзли, но он ничего не чувствовал.
— Перестань, сынок, — Вовка услышал мамин голос. — Тут и без тебя треску хватает. Скоро придем — вон огни впереди.
— Точно! Пришли, считайте, — отозвался дед. — Овражек минуем — и дома.
— Эй, ребя! Эвакуированный! — Вовку обступили ребята. Тот, что кричал, наверное, был рыжим или белобрысым. Все лицо в веснушках, а маленький нос пуговкой покраснел от мороза. Он стоял впереди всех и рассматривал Вовку.
— Тебе сколько лет?
— Шесть, — ответил Вовка нерешительно.
— Ты не бойся, мы не деремся, — вставил сбоку маленький мальчонка в телогрейке до пят.
— А я и не боюсь.
— Погодь, — прикрикнул рыжий. Он был на полголовы выше всех и, видно, за главного.