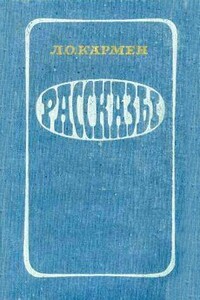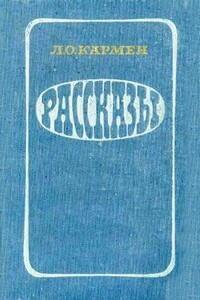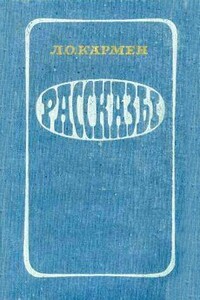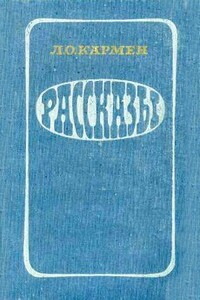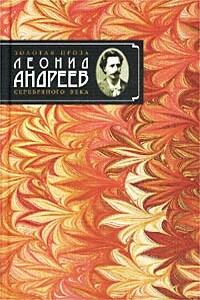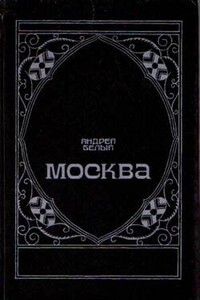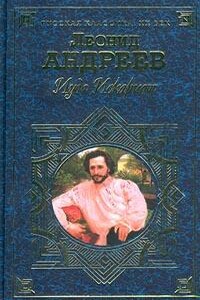Ровно десять дней, как Иван Чубар, бывший молотобоец, блаженствует на новой барской квартире.
С утра выходит он на каменный кружевной балкон, усаживается в пружинистое кожаное кресло и пьет всем существом радость июньского дня. Над головой — синий шатер, горячее брызжущее солнце, а внизу, под домом, широко, до самого моря, разбросался зеленый парк, звенящий птичьим щебетом и детскими голосами.
И сейчас нежится он в кресле, жадно вбирая в старые кости горячие солнечные лучи и вдыхая соленый морской воздух, разбавленный ароматами высоких трав и акации парка.
— Благодать… Господи…
Подле, навалившись грудью на перила балкона, смотрит, как в глубокий, светлый колодезь, на чистую и опрятную улицу Ирина — жена Чубаря, в крапчатой косынке. И ее не узнать, одинаково посвежела. Там, внизу, мчатся с треском штабные моторы, пролетки.
— А ведь дурень ты, — говорит Ирина, повернув к мужу круглое чуть загорелое лицо. — Уперся… хоть ты что… не перееду на новую квартиру… Моя хоть и сырая, и в подвале, да я тридцать лет живу в ней. Тут мне и умереть. Куда нам со свиным рылом, да в калашный ряд. Если бы не насела Анюта, — девочке давно нужен другой воздух — до смерти гнили бы в той яме, на Провианской… Спасибо советским… Пожалуйте, ничего, что барские хоромы, — приспособитесь… Ишь, зелени сколько кругом… птички… Никак музыка…
Из-за угла показалась рота красноармейцев, пестревших красными бантами. Все одеты были по-походному, и сзади колыхались телеги, нагруженные сундучками.
— На фронт, видно… Господи, помилуй! — Ирина перекрестилась…
— Мир хижинам, война дворцам… Эк, взметнулись, в самое поднебесье, на пятый этаж, — раздался неожиданно близко сипливый смешливый голос.
Чубар и Ирина обернулись. В дверях стоял, улыбаясь рыжебородый захудалый Ефрем — кум Чубаря, каменоломщик. Сбитые и скривленные сапоги на нем были запылены, и знакомый клетчатый пиджак, поверх синей голландки без опояски висел мешком.
— Здорово, гренадер, — сказал весело Чубар.
— Гость-то какой!.. Неушто пехтурой со Слободки? — спросила Ирина.
— Как видишь… А и «ховира» же у вас. Три комнаты, кухня, паровое отопление, электричество. А дом самый. На две улицы. Из хорошего четверика сложен. Такого сейчас за тыщи не найти, не режут… Фу-у… Упарился, поднимаясь.
— Садись, — Ирина подвинула ему круглую из малинового бархата скамеечку. Ефрем усмехнулся.
— Гриб-то какой. Не раздавлю? — Он осторожно опустился на скамеечку; — ничего… первый раз на таком мягком сижу, а то, все на «четверенках». Ай да буржуи. Мастера на выдумки.
Ефрем говорил через силу, — его трепала застарелая одышка, нажитая им в каменоломнях. Отдышавшись, он обвел рукой вокруг и блаженно улыбнулся.
— Н-да… можно сказать — божье благословение. Не воздух, а мед липовый… Это какая же пташка разливается. Не соловей ли. Ишь ты… Чивит-чивит. Фьюить, тр-тр-тр-тр… Он вдруг скривил лицо, заморгал глазами и шмыгнул носом.
— Чего ты, — спросил Чубар.
— Как же, — ответил плаксиво Ефрем. — Двадцать семь лет, как крот живу, копаюсь в минах. Ни света божьего, ни солнца.
— Все темнота наша, — мрачно отрубил Чубар.
— Правильно.
— Переезжай к нам, места достаточно. А то в другую квартиру, — тут рядом. Весь дом рабочим предоставлен.
— Хорошо бы, — вздохнул Ефрем, — да как раскачаться? Уж как-нибудь на Слободке у себя проживем…
— Чаю пить — послышалось из комнаты приглашение Ирины.
Мужчины поднялись.
Ефрем с любопытством оглядывал золоченые обои барской гостиной, лепной потолок, бронзовую люстру, тронул робко пальцами клавиш рояля, провел рукой по ореховому буфету. Он знал толк не только в камне, но и в дереве.
— Хорошая фанера…
За спиной его вдруг что-то со звоном и резким криком заворошилось. Ефрем повернулся. Из медной проволочной клетку нахохлившись, глядел на него красно-зеленый попугай и шипел и бил крепким клювом по проволоке, как по струнам.
— Это наш попочка, — ласково сказала Ирина. — Он нам достался вместе с квартирой. Все «славься» пел, прежние хозяева, пароходчик научил, но Митька, — тут у нас красноармеец, паренек жил — он сейчас на фронте — хохол надрал ему и выучил «Интернационал» петь. Погоди, услышишь, как он скрипит: «Слезами залит мир безбрежный»…
Был девятый час, но солнце еще припекало, и Чубар не оставлял своего любимого места на балконе, пил последние тающие лучи, как остатки дорогого вина из бокала.
— Чего, Анютки нет и газет не несет. Портится дочка, — думал он.
Что-то зашуршало близко и на балкон влетела Анютка, розовая, с огромным букетом сирени.
— Сердишься, прощебетала она. — Я не виновата, проходила по Новосельской, вижу — Ваня на лошадях с товарищем к себе в часть на французский Бульвар. Подхватил меня и повез… Завтра снимается на фронт…
— Газету! — нетерпеливо сказал отец. Она достала изза пояса газету и передала отцу. Чубар рванул из её рук.
С первых же прочитанных строк лицо его стало гневным.
— Св… скрипнул он зубами. — Ишь, что выдумали измором взять. Со всех сторон навалились, как псы… Шалишь…
Он вдруг повысил голос до крика и стукнул кулаком о край кресла.
— Все… до единого пойдем на фронт.
На балкон выбежала перепуганная Ирина.