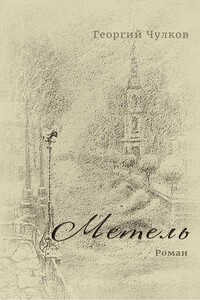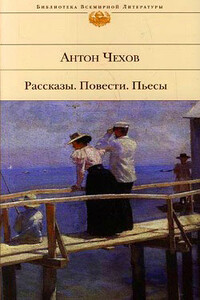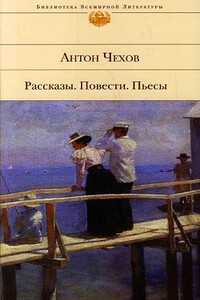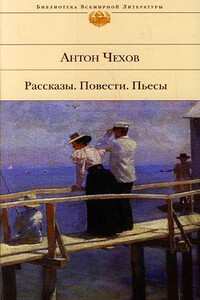В один из ненастных сентябрьских дней, в Петербурге — тогда Петроград назывался еще Петербургом — в особняке князей Нерадовых, на Мойке, в кабинете самого князя сидел невзрачный, на первый взгляд, но в некотором отношении примечательный человек.
Князь Алексей Григорьевич, при всем своем великолепии и надменной сдержанности, не мог утаить живейшего любопытства, которое внушал ему его собеседник. И ведь не впервые сошлись они так наедине — этот князь и господин Сусликов, Филипп Ефимович. А вот все-таки, несмотря на давнее свое знакомство, ничуть они, по-видимому, не утратили взаимного интереса.
Было тогда князю лет за пятьдесят, но все еще мог он пленять своею наружностью. Едва седеющие волосы были пышны; от бороды, совсем черной, лицо казалось необычайно бледным; красные губы были крепки; и лишь хищный профиль, да темные глубокие глаза, вовсе недобрые, могли, пожалуй, смутить впечатлительного человека. Но Филипп Ефимович Сусликов едва ли смущался, хотя князь рассматривал его зорко, как будто стараясь угадать его задние мысли.
Филипп Ефимович сидел перед князем, собравшись в комочек, поджав под себя одну ногу и болтая другой. Рыжие вихры уцелели кое-где на его облысевшей голове, такая же красная растительность кустиками торчала на подбородке и над верхнею губою, которая не прикрывала вовсе темного рта. Чем-то был похож господин Сусликов на сваренного в кипятке рака: такой же он был скрученный, красный, да и руки его были похожи на клешни. Влажные глазки обличали в нем человека чрезвычайно чувственного и это до того бросалось в глаза, что становилось даже как-то стыдно на него смотреть.
Но князь ничем не смущался и спокойно сидел в глубоком кресле перед огромным своим столом, а Сусликов ежился и вертелся на стуле, то потирая руки, то поджимая ноги — и все это проделывая с таким видом, как будто ему одному известна какая-то не совсем обыкновенная тайна и вот он изнемогает от желания открыть эту самую соблазнительную и неожиданную тайну, если не всему свету, то по крайней мере князю Алексею Григорьевичу Нерадову.
— Я вас внимательно слушаю, Филипп Ефимович, — сказал князь, — слушаю вас и удивляюсь. В этом я должен признаться в конце концов.
— Удивление начало мудрости — забормотал господин Сусликов, усмехаясь лукаво и потирая руки. — Но вы чему собственно, милый князь, удивляетесь?
— Чему? Вашей неуязвимости, любезнейший Филипп Ефимович. Вы, право, удивительно как-то умеете ускользать от самого главного, от ответственности, например. Все эти ваши рассуждения о земном рае, при несомненной их занимательности, едва ли смогут вас отвлечь от некоторых беспокойных вопросов.
— Это вы о чем?
— Прежде всего о смерти, любезнейший Филипп Ефимович.
Но Сусликов замахал на князя обеими руками.
— Не хочу, не хочу, — бормотал он в непритворном страхе. — Всегда вы меня расстраиваете. Какая смерть? Зачем смерть? Я боюсь ее и вы боитесь. И все от нашего христианского воспитания. Этот страх монахи выдумали. Такого страха и быть не должно. Да и смерти вовсе нет.
— Как нет?
— Так нет. Вот у меня семь ребят, князь, да у вас тоже ведь их немало. Какая уж тут смерть? Помилуйте! Я тут вижу самый расцвет жизни, махровость и пышность, если угодно. Ведь, и детки наши когда-нибудь в свою очередь… Ведь тут князь, сама бесконечность развертывается!
— Где же тут личность? Моя личность, мое «Я» — позвольте вас спросить, лукавый вы человек!
— Какая личность? Зачем личность. И не надо ее вовсе! Личность, князь, один соблазн. Не в личности дело, а в спаленке.
— Как?
— Я говорю, что в спаленке, у брачного ложа, вся эта вечность и бесконечность, и самое бессмертие. Вообще все самое тайное в спаленке становится явным. Приникнуть надо к этому источнику, подышать этим воздухом, тогда и от личности откажешься. В том и сладость, что тебя уже нет, что весь ты в землю уходишь и себя чувствуешь, как звено плодородия. Тепло и влажно, и сладостно, и тесно, и уж без сомнения праведно. Мать-земля за то порукою.
— Вздор! Вздор! — сказал князь, хмурясь сердито. — Я умирать не хочу. Я! Мне до вашей спаленки и до потомства вашего дела нет. Я сам хочу жить. Я не хотел детей. Они сами по себе. Ваша философия, Филипп Ефимович, извините меня, одна лишь похотливость. Не более того. А где начало? Где конец? В вашей философии ни начала, ни конца.
Решительно князь снизошел до своего собеседника и, кажется, вовсе уж не заботился о своем невозмутимом великолепии. Но и господин Сусликов, по-видимому, чрезвычайно увлекся разговором.
— Это все, князь, гордыня и надменность. А блаженство, князь, именно в том, чтобы от себя отказаться. Для этого и путь уготован. А всякие там мысли о конце и о личности — это все вздор и лукавство, и соблазн. От этаких мыслей на полмира тень легла. Люди свой рай потеряли. Сатана посеял семя ненависти ущерба и разделения.
— Как? Что?
— Человек неожиданно стал сомневаться в своем естественном праве на жизнь. Это случилось, уважаемый князь, ровнехонько две тысячи лет тому назад.
— А! Вот вы про что! — прошептал князь.
Но Сусликов и сам спохватился, что наговорил лишнее. На его лице написан был самый откровенный, самый непритворный страх.