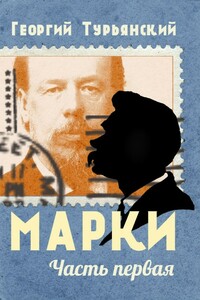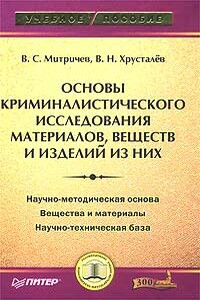В первый раз я увидел Ермолову, когда мне было лет девять, в доме у моего дядюшки, небезызвестного в свое время драматурга, ныне покойного В.А. Александрова, в чьих пьесах всегда самоотверженно играла Мария Николаевна, спасая их от провала и забвения. Ермоловой тогда было лет тридцать пять.
В доме моего дядюшки постоянно бывали актеры тогдашнего Малого театра – Ленский, Горев, Макшеев, Федотова… Я привык слушать их выразительные актерские интонации, мне нравились их не совсем обыкновенные жесты и позы, я жадно запоминал их рассказы, не всегда, впрочем, назидательные и педагогически полезные… Мария Николаевна бывала у моего дядюшки не часто, но мне посчастливилось увидеть ее раза три-четыре. И в тот памятный для меня вечер, когда я впервые увидел ее, она сразу меня пленила чем-то, и я навсегда остался ее верным поклонником, а между тем у меня, мальчугана, тогда произошел с нею весьма забавный спор об актерском искусстве.
Дело в том, что я с малых лет был страстным любителем декламировать стихи. Актеры знали мою слабость и забавлялись тем, что заставляли меня их читать. Никто меня не критиковал, и я принимал за чистую монету знаки одобрения, на которые не скупились благодушные служители Мельпомены[1]. И в тот вечер меня заставили читать стихи. Я не смущаясь стал читать «Бесы» Пушкина. Я упивался музыкой метели и читал стихи, сохраняя, как мне казалось, все оттенки пушкинского ритма, и мне даже в голову не приходило, что можно стихи читать как-то иначе, на прозаический разговорный лад. Представьте себе мое удивление, когда неизвестная мне дама (я не знал еще тогда, что это была Ермолова) не совсем одобрила мое чтение. По свойственной ей прямоте и честности Мария Николаевна даже чтение девятилетнего мальчишки приняла всерьез.
– Ты, дружок, читаешь нехудо, – сказала она своим грудным и несколько глухим голосом, – но зачем ты так поешь? У тебя хорошо вышло, когда ты прочел «Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин». Мне даже самой страшно стало. Но не надо декламировать нараспев. Читай стихи просто, как мы все разговариваем в жизни.
Я почувствовал, что краснею; потупился и молчал.
– Что ж ты молчишь? – спросила Мария Николаевна. – Разве не согласен?
– Нет, – пробормотал я, изнемогая от смущения. – Надо нараспев. Так лучше.
– Ах, какой упрямый! – сказала Мария Николаевна без гнева, но совершенно серьезно.
Этот спор с Марией Николаевной, который вел я сорок лет тому назад, определил все мое дальнейшее понимание стихов и чтение их. Я так и не согласился с гениальною актрисою в том, как надо трактовать стихи на сцене. А между тем я покорился ее гению и всю жизнь чтил великий дар, которым она обладала, но, конечно, не потому, что она читала стихи как прозу, а несмотря на эту ее ошибку. В моей восторженной оценке ее внутренней артистической силы меня не поколебало даже однообразие ее типового психологического рисунка, отсутствие художественных деталей в исполнении ролей и вообще небрежность к форме. Тайна очарования Ермоловой была вовсе не в ее актерском мастерстве. Иные актрисы были выше ее в этом отношении – Элеонора Дузе, даже Федотова, Савина и еще кое-кто тоньше играли, умнее задумывали роли и владели иногда своим ремеслом лучше Ермоловой. Но у Марии Николаевны было нечто, что было вовсе не доступно ее соперницам. В самом существе Ермоловой, в ее личности, были какие-то патетические силы, и этот ее необычайный пафос покорял все сердца без исключения. Ермолова чувствовала мир как трагедию. Какую бы роль она ни играла, а ей часто приходилось играть пустые роли в ничтожных пьесах, – все равно ей всегда удавалось наполнить предназначенную ей роль этой своей необыкновенною духовной энергией. Ермолова была однообразнее Элеоноры Дузе, которая умела раскрывать все оттенки и детали той или другой психологии. Ермоловой не нужна была психологическая сложность: ей нужно было раскрыть и показать глубину своей собственной личности. Она воистину преодолевала психологию и, значит, преодолевала страсти. Вот почему Ермолова была подлинная трагическая актриса. Она повседневные и поверхностные драмы страстей и страстишек, сочиненные современными ей драматургами, возвышала до настоящей трагедии. Она играла самое себя и только себя. В.Ф. Комиссаржевская тоже играла себя, но у нее душа пела, как волшебная птица, чье имя – лирика. Комиссаржевская представляла собой совершенный тип лирической актрисы, Ермолова – актрисы трагической.
Трагический пафос Ермоловой был так велик, что в зрительном зале ей покорствовали все без исключения – и ее поклонники, и ее враги. У нее были и враги-хулители, которые негодовали на нее за ее небрежность к «отделке» роли, за ее «грубый» голос, за то, наконец, что она, не считаясь с ансамблем, ломает пьесу, понуждая слушать и смотреть себя одну. Но и эти хулители не смели ее критиковать, пока она играла. В театре, во время ее игры, осуществлялось то чудо искусства, какого я после Ермоловой не наблюдал ни разу, хотя немало прекрасных мастеров сцены довелось мне видеть. Один только старик Сальвини покорял так же все души без исключения. У нас, русских, из мне известных современников был еще один актер, очень неровный и даже в каком-то смысле нескладный, но который в некоторых ролях, когда был, что называется, «в ударе», тоже владел всем зрительным залом чудотворно. Таким актером был покойный Горев. Таким он был иногда в «Короле Лире»