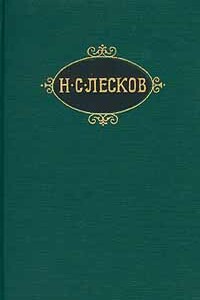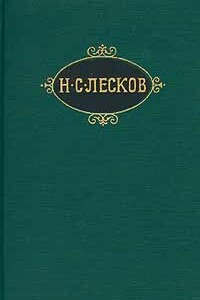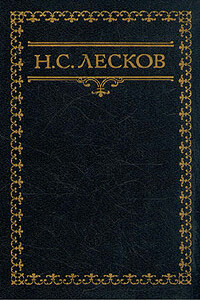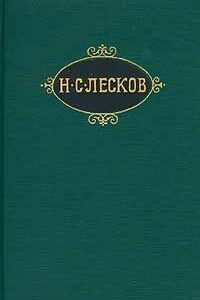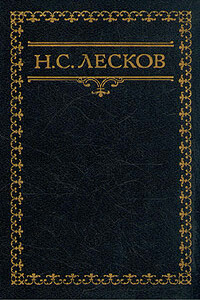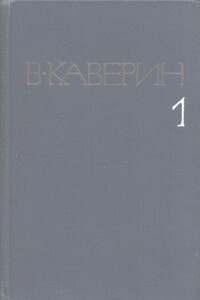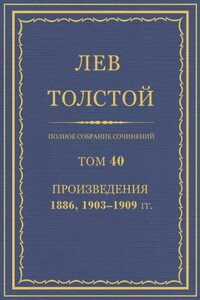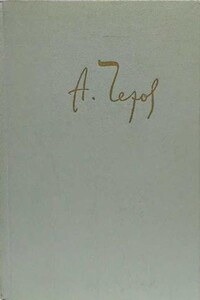Ранним вечером, на святках, мы сидели за чайным столом в большой голубой гостиной архиерейского дома. Нас было семь человек, восьмой наш хозяин, тогда уже весьма престарелый архиепископ, больной и немощный. Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке. В числе собеседников находился некто флота-капитан Б., очень добрый человек, но большой нападчик на русское духовенство. Он твердил, что наши миссионеры совершенно неспособны к своему делу, и радовался, что правительство разрешило теперь трудиться на пользу слова божия чужеземным евангелическим пасторам. Б. выражал твердую уверенность, что эти проповедники будут у нас иметь огромный успех не среди одних евреев и докажут, как два и два – четыре, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди.
Наш почтенный хозяин в продолжение этого разговора хранил глубокое молчание: он сидел с покрытыми пледом ногами в своем глубоком вольтеровском кресле и, по-видимому, думал о чем-то другом; но когда Б. кончил, старый владыка вздохнул и проговорил:
– Мне кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что он прав: чужеземные миссионеры положительно должны иметь у нас большой успех.
– Я очень счастлив, владыко, что вы разделяете мое мнение, – отвечал капитан Б. и, сделав вслед за сим несколько самых благопристойных и тонких комплиментов известной образованности ума и благородству характера архиерея, добавил:
– Ваше высокопреосвященство, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные и очень добрые, – я этого никак не стану оспаривать, но они едва ли понимают Христа. Их положение и прочее… заставляет их толковать все… слишком узко.
Архиерей посмотрел на него, улыбнулся и ответил:
– Да, господин капитан, скромность моя не оскорбится признать, что я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я решился признать вместе с вами, что в России господа Христа понимают менее, чем в Тюбингене, Лондоне или Женеве.[1]
– Об этом, владыко, еще можно спорить.
Архиерей снова улыбнулся и сказал:
– А вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать! От спора мы воздержимся, а беседовать – давайте.
И с этим словом он взял со стола большой, богато украшенный резьбою из слоновой кости, альбом и, раскрыв его, сказал:
– Вот наш господь! Зову вас посмотреть! Здесь я собрал много изображений его лица. Вот он сидит у кладезя с женой самаритянской[2] – работа дивная; художник, надо думать, понимал и лицо и момент.
– Да; мне тоже кажется, владыко, что это сделано с понятием, – отвечал Б.
– Однако нет ли здесь в божественном лице излишней мягкости? не кажется ли вам, что ему уж слишком все равно, сколько эта женщина имела мужей и что нынешний муж – ей не муж?[3]
Все молчали; архиерей это заметил и продолжал:
– Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертой нелишнею.
– Вы правы может быть, владыко.
– Распространенная картина; мне доводилось ее часто видеть, по преимуществу у дам. Посмотрим далее. Опять великий мастер. Христа целует здесь Иуда.[4] Как кажется вам здесь господень лик? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображение!
– Прекрасный лик!
– Однако не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите: левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы гадливость.
– Конечно, это есть, владыко.
– О да; да ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил; и раб и льстец – он очень мог ее вызвать у всякого… только, впрочем, не у Христа, который ничем не брезговал, а всех жалел. Ну, мы этого пропустим; он нас, кажется, не совсем удовлетворяет, хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе не может. Вот вновь Христос, и тоже кисть великая писала – Тициан: перед господом стоит коварный фарисей с динарием.[5] Смотрите-ка, какой лукавый старец, но Христос… Христос… Ох, я боюсь! смотрите: нет ли тут презрения на его лице?
– Оно и быть могло, владыко!
– Могло, не спорю: старец гадок; но я, молясь, таким себе не мыслю господа и думаю, что это неудобно? Не правда ли?
Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно вознося к нему молитвы.
– Совершенно с вами в этом согласен и даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому этот Христос только и нравился; но, впрочем, что же?.. момент дипломатический. Но пойдемте далее: вот тут уже, с этих мест у меня начинаются одинокие изображения господа, без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауера[6]: хорош, хорош! – ни слова; но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона[7]. Вот он, еще… какой страдалец… какой ужасный вид придал ему Метсу[8]!.. Не понимаю, зачем он его так избил, иссек и искровянил?.. Это, право, ужасно! Опухли веки, кровь и синяки… весь дух, кажется, из него выбит, и на одно страдающее тело уж смотреть даже страшно… Перевернем скорей. Он тут внушает только сострадание, и ничего более. – Вот вам Лафон