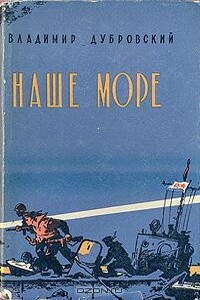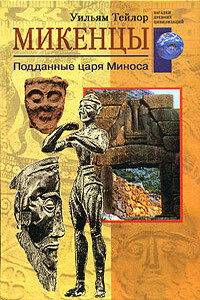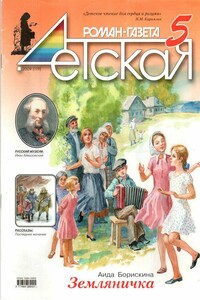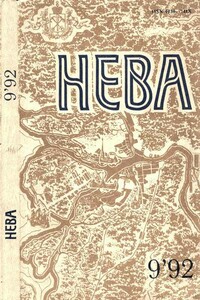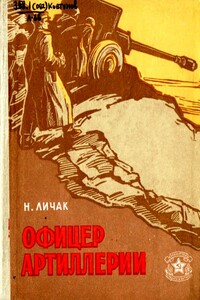Каждый раз, возвращаясь в Севастополь после долгой или кратковременной разлуки, я снова волнуюсь, увидев, как плещется зеленая волна у высоких бортов военных кораблей, как полощется по ветру корабельный флаг и мечутся чайки над Северной бухтой.
Севастополь — город моей моряцкой юности: отсюда выходил я на военном корабле в свой первый поход по Черному морю, сюда же возвращался вновь, вот к этим каменным причалам.
И теперь я волнуюсь, подъезжая к Севастополю. Вечер. Зной и духота летнего дня медленно сменяются прохладой, вливающейся в раскрытые окна вагона.
На высоких холмах стоят белые каменные дома с голубыми и зелеными балконами, узкие террасы ступеньками сбегают к морю, у вокзала шумят высокие древние тополя с вороньими гнездами на них. Птицы взлетают в небо при приближении грохочущего поезда.
А внизу блестит в бухте теплая, нагретая солнцем вода, неподвижно стоят корабли с влажной палубой и чисто вымытыми бортами, пушками, одетыми в чехлы.
Севастополь — военно–морская крепость, но об этом забываешь, когда видишь шумный и веселый город, нарядную и оживленную толпу встречающих на перроне и первые вспыхнувшие к вечеру огни привокзальных служб: красные, зеленые, желтые и слышишь певучие рожки стрелочников, звон посуды в буфете ресторана и сирены автомашин у подъезда.
В соединении, куда я назначен на новую службу, представляюсь начальнику штаба. Сквозь толстые стекла очков, оседлавших его широкий нос, вижу знакомый, всегда иронический прищур глаз; я рассматриваю его высокий выпуклый лоб, складки глубоких морщин от глаз к подбородку и гладко зализанный пробор.
С Владимиром Ивановичем Морозовым мы старые знакомые. Десять лет назад, в самом начале тридцатых годов, придя из военно–морского училища на Черноморский флот, я впервые встретился с ним. Служили мы тогда в Дивсторкате ЧФ — так назывался отдельный дивизион сторожевых катеров. Командовал им участник гражданской войны, награжденный орденом Красного Знамени, Иван Лаврентьевич Кравец. Хороший моряк, он многому научил молодых командиров.
Морозов в то время был уже опытным штурманом. Обогнув Европу, он совершил переход на крейсере «Профинтерн» из Балтики в Черное море и много и увлекательно рассказывал о штормах в Бискайском заливе, о гибралтарской скале, о песчаном Алжире, откуда он вывез шкодливую ручную обезьянку.
В те годы не остыли еще в памяти героические были о гибели на Балтике трех эсминцев и взрыве мин на форту «Павел»; о штормовом переходе через Атлантику, где разъяренный океан смял стальной нос линкора «Парижская коммуна», о дальнем вояже сторожевого корабля «Воровский» из Архангельска к Владивостоку и Камчатке.
Близки нам были слова печальной песни моряков:
Их было три — один, другой и третий.
И шли они в кильватер без огней,
Лишь волком выл в снастях разгульный ветер,
Да ночь была из всех ночей темней…
Ее любил петь молодой штурман Морозов.
Нас, прибывших тогда из Ленинграда, с хмурой Балтики, где белые чехлы на фуражках казались лишними, поразило вечно солнечное и сияющее Черное, море, и служба здесь представлялась нам легкой и праздничной.
Только придя на корабли, мы поняли, что профессия военного моряка–офицера — это повседневный напряженный и тяжелый труд, что корабельная служба требует мужества и энергии, отказа от многих привычек.
И вот теперь, после десятилетнего перерыва, мы снова встретились с Морозовым. Расспросив о службе на Тихоокеанском флоте, где я последнее время командовал 4‑м отдельным дивизионом торпедных катеров, Морозов проводил меня к командиру соединения — контр–адмиралу Фадееву.
Кабинет контр–адмирала представлял собой угловую комнату. Окна ее выходили прямо в бухту. Отсюда были видны и стоявшие у пристани корабли, и все, что делалось на рейде.
За столом сидел несколько сутуловатый, как большинство давно плавающих моряков, худощавый контр–адмирал. Продолговатое сухое нервное лицо, темные, слегка вьющиеся жесткие волосы с заметной проседью и черные строгие глаза — все говорило о твердой воле, энергии и многолетней привычке командовать. Он был одет в аккуратно сидевший на нем китель, на котором выделялась массивная цепочка карманных часов — искусно сделанная корабельная якорная цепь с золочеными контрфорсами. Щеголеватая фуражка с нахимовским крутым козырьком лежала на столе.
Огромный гладкий полированный стол, за которым сидел адмирал, был пуст, как палуба военного корабля по боевой тревоге. На толстом стекле стояла маленькая пластмассовая чернильница и лежала тонкая ученическая ручка. Позже я узнал о муках интенданта соединения, который, услыхав от контр–адмирала фразу «убрать эти камни», относившуюся к громоздкому, величественному чернильному прибору из мрамора, бросился в комиссионные магазины на поиски нового и привез хитроумное сооружение из стекла и бронзы, заранее предвкушая благодарность. Но на следующий день этот прибор перекочевал на стол к начальнику штаба. Адъютант купил ученическую пластмассовую чернильницу и поставил ее перед адмиралом.
На стенах кабинета не было привычных морских пейзажей, копий картин Айвазовского, а висели чертежи и схемы мин и различных тралов.