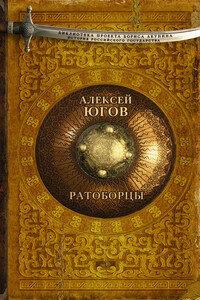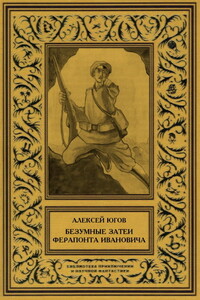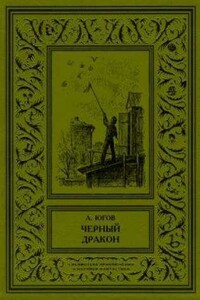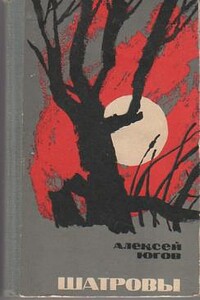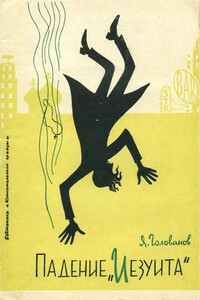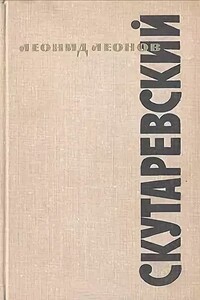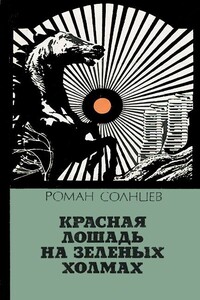Знойный полдень над Волгой. Синее, глубокое небо. А внизу — стеклянно струящееся марево над жаркою белизною песков, буйная зелень, свежесть и сверкание воды.
И, словно бы усиливающий и это затишье и этот зной, пустынно-тоскливый крик чайки: «Ки́рик, ки́рик!..»
Торжественны волжские просторы и развороты! Конец мая — полая вода уже схлынула, но Волга еще не вошла в межень. Местами рощицы поймы узкими гривками стоят в воде. Но с каждым днем, с каждым часом прямо на глазах песчаные рёлки и острова обнажаются, обсыхают, белеют.
Вот утром еще пески этого плоского, сплошь песчаного острова, с густой зеленой грядой ивы и осокоря посередке, были совсем сырые, темно-серого цвета, а сейчас и взглянуть на них больно: до того белы! Убывая и открывая сырую рель, вода оставляет на ней твердые песчаные за́струги-волны. И не пройдет и часа, как под нестерпимо жаркими лучами солнца они становятся сухими, рассыпчатыми и сладостно обжигают голые подошвы, ступающие по этим осыпающимся гребешкам. В зной на этом пустынно-жарком острове только и купаться, только и загорать.
И Наталья Васильевна Бороздина, жена председателя Староскольского исполкома, очень гордилась — в шутку, конечно, — что она первая открыла этот остров. Старшая ее дочь, семнадцатилетняя Светлана, приписывала честь открытия себе. А Наташка-«первоклашка», как дразнили ее во дворе, семилетний рассудительный сухарик, загорелый худыш в розоватых широких пятнах от облупившейся кожи, — та не оспаривала ни у матери, ни у сестры честь открытия, но зато «провела через семейный совет» новое название острову — остров Воскресный. А в народе у него было извечное волжское название — Осерёдыш.
Бороздину и ее девочек Воскресный остров пленил своею пустынностью, песками и отдаленностью. Это был их тайный женский остров-пляж, уединенный и безопасный. Впрочем, у них была на острове и своя «стража»: так прозвали они хромого инвалида Степу, на чьей моторной лодке приезжали сюда по воскресеньям на целый день.
С ними каждое воскресенье выезжал Максим Петрович Бороздин со своим недавним, но, пожалуй, уже и задушевным другом Леонидом Ивановичем Рощиным, начальником великой стройки, которая со все возрастающим гулом и напряжением ширилась, разметывалась и на правом и на левом — «бороздинском» — берегу. Но оба они, и отец и Рощин, были, по сердитому выражению Светланы, «малахольные рыбаки»: их посади под кустик над кадушкой с водой, дай им по удочке в руки, так они с радостью целый день будут трястись над поплавками — воображать... И, остановленная матерью, мальчишески-дерзкая, курносая, крупно-кудрявая, с большими карими глазами, Светлана упрямо встряхивала головой и надувала пухлые губы. Но тут вмешивалась Наташка — верная заступа отца.
— Не смей так говорить про папку! — заявляла она и принималась плакать-гудеть. Сестры начинали ссориться всерьез.
— Ну что я сказала плохого, ну что?.. — восклицала вызывающе Светлана.
— Да уж и впрямь! — с раздражением вмешивалась мать. Ей хотелось, чтобы и Максим ее был здесь же, с нею и с девочками, и чтобы он беззаб отно отдыхал, купался и загорал. Да и немножко обидно было: отдавало обычным среди заядлых охотников и рыболовов презрением к женщинам.
Максим Петрович Бороздин был невысок, жесткого сложения, порывисто-подвижный. Его коротко остриженная, с проседью, слегка яйцевидная голова, смуглое лицо, большие черные глаза делали его чуть цыгановатым.
— Папка! Ты у нас на египетского жреца похож! — воскликнула однажды Светлана.
— Что ты, дочка! — только и нашелся возразить Бороздин.
И, конечно, тотчас же поднялась на защиту отца Наташка:
— И неправда!.. И не похож, и не похож! — И, подбежав, она вспрыгнула к нему на колени и стала своими худеньками палочками-ручонками обнимать и гладить отца, приговаривая: — Папочка!.. Какой ты у нас красивенький!.. Всех, всех красивее!..
Рощин был полной противоположностью Бороздину. Рослый. Дородный. Этакий крупитчатый, белолицый, чернокудрый красавец генерал. Впрочем, кудри свои он подстригал, как вот стригут жесткую, упругую траву газонов. Его тщательно выбритое удлиненное лицо с необычным для сорокапятилетнего мужчины нежным румянцем казалось очень молодым. Этого, по-видимому, он и добивался. Вообще Рощин очень заботился о своей внешности. Военное шло к нему, он был генералом инженерных войск и весьма неохотно облачался в гражданское.
Сложения едва не преизбыточного, но еще не отучневший, статный, с богатырским разворотом груди, он был хорош в белоснежном, в обтяжку кителе.
У Рощина был просторный, гудящий голосина. Однако за последнее время его добродушный бас все чаще и чаще пронизывался звоном начальственной «гневинки», и тогда казалось, что у начальника строительства чуть ли не фальцет.
С женщинами Рощин был очень обходителен. Его учтивость к ним даже казалась некоторым, и в первую очередь Наталье Васильевне, и устарелой и преувеличенной.
— Да что он, барин, что ли, или старой армии генерал? Из бедной крестьянской семьи, такой путь прошел!.. Или уж так его в Москве министерши перевоспитали в своих салонах? — говаривала она.