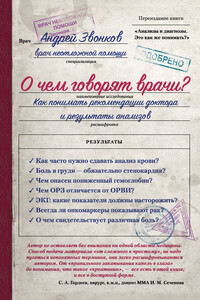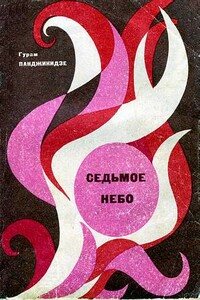— Съешь меня, — произнёс Аркайчик, кое‑как шевеля замёрзшими губами. — Съешь меня, сынок.
Слабое облачко пара, сорвавшееся с его посиневших губ, растаяло в морозном воздухе частицей исходящей из тела жизни.
Черноглазый взгляд мальчика отстранённо пробежал по лицу старика, вернулся к вершине Каратрога.
— Всё равно ороты съедят, — продолжал Аркайчик затухающим от слабости голосом. — И тебя и меня съедят, Мельким. Тогда у них сил станет больше. Придут в когол[1]. Нельзя им дать силы.
Мальчик кивнул безучастно, не сводя взгляда с белой шапки снегов на пике.
— Я сейчас усну, — продолжал старик тяжело, с одышкой. — Ты тогда ударь меня. Ножом. Вот сюда. Я умру. Кровь пей. Она тёплая, сытная. Быстро жизнь наберёшь.
Мальчик кое‑как, с передышками, подгрёб к старику несколько кучек проснеженного сена. Согреть измождённое тело старика оно уже не могло, но мальчику так было спокойней.
— Спи, — сказал он.
— Ага, — радостно кивнул старик. И показал пожелтелым пальцем с изломанным чёрным ногтем себе на шею под челюстью. — Вот сюда ударишь. Не сильно. Сильно не бей. А то кровь быстро уйдёт.
— Спи, — повторил Мельким.
— Про духов не забудь, — бормотал старик, закрывая глаза. — Духам печень отдай. Печень плохая у меня, старая, не ешь её.
— Не буду.
— Смотри. Голову тоже не трогай. Голову орлам оставь. А сердце съешь первым. Так хочу.
— Да.
— Сердце… Пусть будет… твоим, — губы Аркайчика сомкнулись в усталую безжизненную складку на обтянутом кожей черепе; лицо его и лицом‑то уже назвать было нельзя — иссохшая маска идола. Слабость и сон одолевали, тянули в омут забытья. — Сердце у меня… воин был… духов не забудь… Пока не замёрзло мясо…
— Спи, старый.
Аркайчик замолчал, засопел слабо, почти неслышно. Грудь, укрытая лежалым сеном, будто и не поднималась — не понять было, уснул старик или ушёл в снежную вечность.
Мельким зашевелился, заскрёб снег, поднимаясь. Встав на колени, подтянулся, выглянул поверх оледенелого бугра по краю ямы, в которой они со стариком залегли.
На той стороне пропасти не видно было дыма костра. Вот уже третий день не видно дыма. Похоже, и оротам нынче не легко — кончилось у них топливо. Сожгли всё, что можно было сжечь. Съели всё, что можно было съесть. И замерзают теперь. У них ведь и сена может не быть. Хотя, от сена проку мало, если изнутри ничего не греет.
Поначалу каждую ночь пытались ороты перебраться на эту сторону по висячему мосту. Выбирали время, чтобы застать врасплох — то ближе к утру, то в самую темень. Да всё зря: старик и мальчик были настороже; вдвоём не спали — только по очереди. Многих перебили.
Туго сейчас оротам. Как лавина сошла, так остался у них один путь — на эту сторону, по висячему мосту, на котором только–только двое смогут разойтись. Ни помощи ждать им неоткуда, ни отступить некуда. И обоз, видать, уже пуст — всё сожрали, что можно было.
Сначала, покуда были у оротов ядра для пушки, Аркайчику с Мелькимом приходилось несладко. Старику, вон, ступню оторвало. А ороты веселились — палили из пушечки, кричали что‑то по–своему, дразнились. Понимали, что мортиру им всё равно по мостку не протащить, а тут — такая потеха. Только веселье‑то у них быстро кончилось. Вместе с ядрами и кончилось. Как уяснили, что в два ружья их всех можно на этом мосту положить, так и кончилось у них веселье.
Было их человек с полсотни поначалу. Теперь остался десяток от силы. Не меньше шима[2] застрелили Мельким с Аркайчиком. Сколько‑нибудь наверняка лавина забрала. Белая смерть тоже, поди, заглядывала к ним в лагерь.
Да, не больше десятка сейчас оротов. Замёрзшие, голодные, ослабевшие.
Но какие бы ни были, а благо, что не знают они, сколько зарядов осталось у их противников по эту сторону. Знали бы, так озверели бы, заорали бы истошно и радостно, полезли бы на мост. Отгремели бы последние два выстрела из Аркайчикова ружья, пыхнуло бы ружьецо Мелькима, и — всё. Маленький полудетский лук с четырьмя стрелами — это же так только, видимость одна, а не оружие.
Старик застонал во сне. Жив, значит. Нога, наверное, ноет. Лишь бы не загнила нога, а то чёрная кровь его в два дня удушит. И останется тогда Мельким один здесь, посреди белой немоты Поющих гор. С десятью голодными оротами по ту сторону моста. С тремя зарядами.
Голод резким спазмом сдавил пустой желудок, скрутил его жгутом, как Оталька скручивает стираную рубаху, отжимая.
Оталька сейчас сидит в тёплом хатуте, ест жирную баранину, а на низкой скамеечке, рядом, парит горячий травник. Горит, потрескивая и источая вкусный запах, жирник. Где‑то, в дальнем круге, играют на сургане, и исполненный вечной печали напев уносится по склонам к вершине Пахрога, туда, где спят в своих ледяных хатутах духи гор.
Помнит ли она о Мелькиме? Ещё пол–луны назад они с Аркайчиком должны были вернуться в посёлок. Не вернулись. Такое нередко бывало. Духи с удовольствием забирают свою долю горских жизней: зазевался, оступился на узкой обледенелой тропе, испугался пения гор или рокота ветров, тени за скалой — поминай как звали. А они оба — одиночки, не охотники, не воины; старик да мальчишка, перегонщики скота. Мало ли таких было и будет ещё. Уже и паст