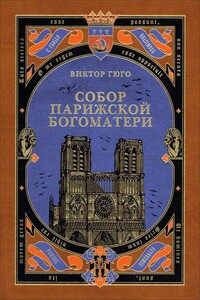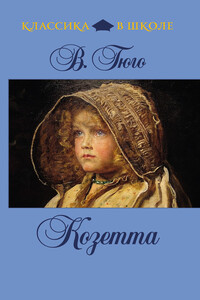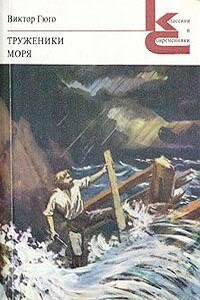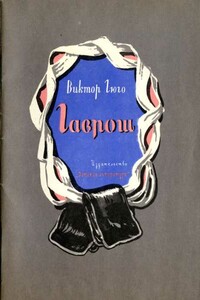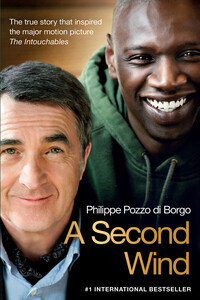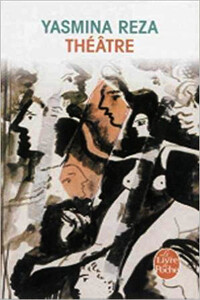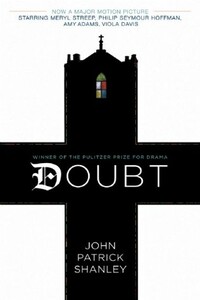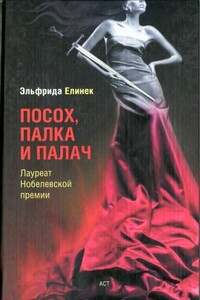Автор, как он и обещал в предисловии к предыдущей драме, вернулся к делу всей своей жизни – искусству. Он возобновил свои любимые занятия даже прежде, чем окончательно разделался с жалкими политическими противниками, которые отвлекли его от работы два месяца тому назад. К тому же выпустить в свет новую драму через полгода после драмы запрещенной – это тоже был способ сказать правительству правду в лицо. Это значило показать ему, что оно зря старается. Это значило доказать ему, что искусство и свобода могут возродиться за одну ночь наперекор грубой ступне, попирающей их. И он теперь рассчитывает в одно и то же время продолжать политическую борьбу, если в том будет надобность, и свой литературный труд. Можно выполнять свой долг и заниматься в то же время своим делом. Одно не мешает другому. У человека две руки.
«Король забавляется» и «Лукреция Борджа» не похожи ни по содержанию, ни по форме, и эти два произведения имели каждое столь различную судьбу, что одно из них явится, может быть, основной политической вехой, а другое – вехой литературной в жизни автора. Все же он считает нужным сказать, что эти две пьесы, столь различные по содержанию, по форме и по своей судьбе, тесно связаны в его сознании. Идея, вызвавшая к жизни драму «Король забавляется», и идея, породившая драму «Лукреция Борджа», возникли в одно и то же время, в том же самом сердце. В самом деле, в чем заключается заветная мысль, скрытая под тремя или четырьмя оболочками в драме «Король забавляется»? Вот она. Представьте физическое уродство, самое отвратительное, самое отталкивающее, самое полное; поместите его там, где оно будет выделяться всего сильнее, – на самой нижней, самой подземной, самой презираемой ступени общественного здания; осветите это жалкое существо со всех сторон зловещими лучами контрастов; а затем – дайте ему душу и вложите в эту душу самое чистое из человеческих чувств – отцовское чувство. Что произойдет? Это божественное чувство, разгоревшись в зависимости от определенных причин, преобразит на ваших глазах это униженное существо; до этого ничтожное, оно станет великим; до этого уродливое, оно станет прекрасным. Вот что такое, в сущности, «Король забавляется». Ну, а что такое «Лукреция Борджа»? Представьте нравственное уродство, самое отвратительное, самое отталкивающее, самое полное; поместите его там, где оно будет выделяться всего сильнее, – в сердце женщины, наделенной всеми дарами физической красоты и царственного величия, которые еще резче подчеркивают ее преступность, и прибавьте ко всему этому нравственному уродству чувство чистое, самое чистое, какое только женщина может испытывать, – материнское чувство. Чудовище сделайте матерью, – и чудовище возбудит участие, чудовище заставит плакать, и существо, вызывавшее страх, вызовет сострадание, и эта безобразная душа станет почти прекрасной в ваших глазах.
Итак, отцовство, освящающее физическое уродство, – это «Король забавляется»; материнство, очищающее нравственное уродство, – это «Лукреция Борджа». Если бы слово «билогия» не было варварским новообразованием, то можно было бы сказать, что в сознании автора две эти пьесы представляют не что иное, как своего рода билогию, которая могла бы быть озаглавлена «Отец и мать». Не все ли равно, что они имели разную судьбу? Второй суждена была удача, первая же стала жертвой приговора без суда и следствия; идея, которая легла в основу первой, останется скрытой от многих глаз в силу целого множества предубеждений; идея, которая вызвала к жизни вторую, каждый вечер, если только мы не поддаемся какой-то иллюзии, встречает понимание и сочувствие со стороны умной и благожелательной публики. Habent sua fata!…[1] Но как бы ни обстояло дело с этими двумя пьесами, не имеющими, впрочем, других достоинств помимо того, что публике угодно было отнестись к ним со вниманием, они сестры-близнецы, они обе – и увенчанная успехом и отвергнутая – зачаты вместе, как Людовик XIV и Железная Маска[2]
Корнель и Мольер имели обыкновение обстоятельно отвечать на критику, вызванную их произведениями, и зрелище, отнюдь не лишенное любопытства, представляет для нас то, как эти два титана театра в своих «предисловиях» и «обращениях к читателю» стараются выпутаться из целой сети придирок, которою непрерывно оплетала их современная критика. Автор этой драмы не считает себя достойным следовать столь великим примерам. Он перед лицом критики будет молчать. Что подобает таким авторитетам, как Мольер и Корнель, не подобает другим. Впрочем, может быть, один только Корнель во всем мире и умеет оставаться великим и возвышенным в то самое время, когда заставляет какое-нибудь из своих предисловий склонять колени перед Скюдери.[3] или Шапеленом[4] Автор отнюдь не Корнель; те, с кем имеет дело автор, отнюдь не Шапелены или Скюдери. Критика, за несколькими единичными исключениями, была по отношению к нему честной и благосклонной.
Конечно, он мог бы ответить на целый ряд замечаний. Тех, кто находит, например, что Дженнаро слишком простодушно позволяет герцогу во втором действии отравить его, он мог бы спросить, почему Дженнаро, лицо, созданное воображением поэта, должен быть более правдоподобным и менее доверчивым, чем исторический Друз у Тацита,