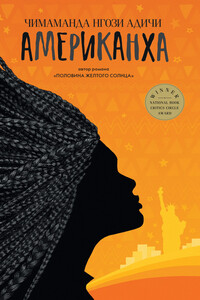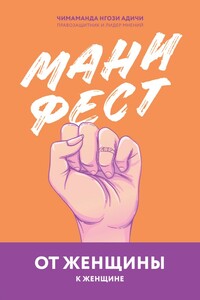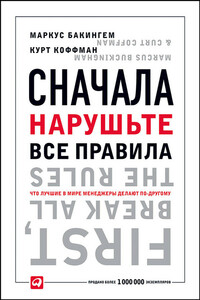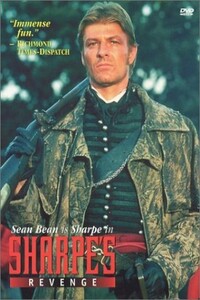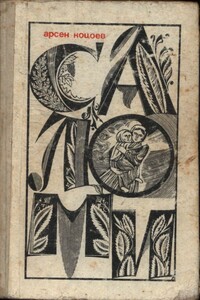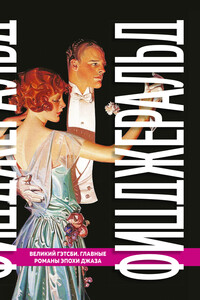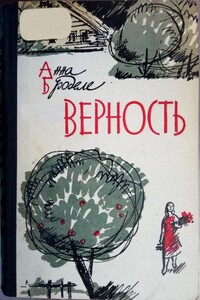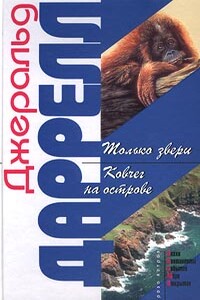НИЗВЕРЖЕНИЕ БОГОВ
Пальмовое воскресенье[2]
Все начало рушиться в тот день, когда мой брат, Джаджа, не пошел на причастие. От злости папа так сильно швырнул тяжелый молитвенник, что стоявшие на этажерке статуэтки упали и разбились.
Мы только вернулись из церкви, и мама, положив свежие пальмовые листья, еще влажные от святой воды, на обеденный стол, ушла наверх переодеваться. Обычно она связывала из них разлапистые кресты и украшала стену вокруг нашего семейного портрета в золотой рамке. Листья висели на стене до Пепельной среды[3], а потом мы относили их обратно в церковь, чтобы там сжечь. И папа, одетый в длинную серую рубаху, как и остальные католики, каждый год помогал раздавать этот пепел. Стоявшая к нему очередь всегда продвигалась медленнее остальных, потому что он рисовал изображение креста на лбу каждого из прихожан тщательно, большим пальцем руки, покрытым пеплом, и медленно, с торжественной весомостью произносил каждое слово: «Ибо прах ты и в прах возвратишься»[4].
Во время мессы папа всегда сидел в первом ряду возле прохода. Мы с мамой и Джаджа были рядом с ним. Папа первым принимал причастие. Мало кто вставал на колени перед мраморным алтарем, возле статуи светловолосой Святой Девы, но папа всегда это делал. Он так крепко закрывал глаза, сжимая веки, что его лицо становилось похоже на маску, а язык высовывался изо рта. Затем папа возвращался на свое место и наблюдал, как остальные верующие шествуют к алтарю с вытянутыми вперед руками — предполагалось, что они держат невидимые тарелки с дарами. Так учил отец Бенедикт. Несмотря на то что отец Бенедикт служит в церкви святой Агнессы вот уже семь лет, между собой люди по-прежнему называют его «наш новый преподобный». Кто его знает, стали бы они так называть его, не будь он белым. Из-за цвета кожи он навсегда останется новичком, пришлым. Его лицо цвета разрезанной гравиолы[5] не потемнело ни на тон под жаром испепеляющего нигерийского харматана[6], а английский нос остался таким же узким и вздернутым, как и в день приезда в Энугу. Помню, я даже испугалась, что с таким носом он здесь задохнется. Отец Бенедикт многое изменил в нашем приходе. Например, настоял на том, чтобы Символ веры читался только на латыни, а язык игбо использовать в церкви запретил. И хлопать в ладоши там разрешалось теперь только по особым случаям и сдержанно, чтобы не нарушить торжественное таинство мессы. Хорошо, что отец Бенедикт позволил нам петь на игбо некоторые гимны литургии, только назвал их «народным пением». Когда он произносил эти слова — «народное пение», — уголки его тонких прямых губ сползали вниз и рот становился похож на арку.
Во время проповедей отец Бенедикт часто упоминал папу римского, моего папу и Иисуса, именно в такой последовательности. Образ моего папы был ему нужен для разъяснения верующим значения притч Евангелия.
— Когда мы несем свет людям, мы поступаем, как Иисус, торжественно вступающий в Иерусалим, — сказал он в то Пальмовое воскресенье. — Взгляните на брата Юджина. Он мог бы уподобиться остальным сильным мира сего, живущим в этой стране, мог бы остаться дома и ничего не делать после переворота, заботиться только о том, чтобы новое правительство не угрожало его бизнесу. Но нет! На страницах своей газеты он говорит людям правду, хотя из-за этого потерял много денег, ведь от его «Стандарта» отвернулись рекламодатели. Брат Юджин возвысил голос во имя свободы! Многие ли из нас отважились отстаивать правду? Многие ли из нас уподобляются Иисусу, несущему свет истины?
В ответ община выдохнула: «Да!» или «Храни его Господь!» и «Аминь!», но не слишком громко, чтобы не уподобляться выскочкам из церкви пятидесятников. Потом все затихли, внимая голосу отца Бенедикта. Даже младенцы перестали плакать. Во время воскресных проповедей прихожане всегда внимательно слушали, даже если отец Бенедикт повторял всем известные вещи. Например, что мой папа жертвовал больше всех денег в лепту Святого Петра[7] и на нужды церкви. Или что папа оплатил вино для причастия или потратился на новые печи для обители, в которых преподобные сестры пекли просвиры, и на оборудование для госпиталя святой Агнессы, в заботе о котором преподобный проявлял особое рвение. И тогда я сидела возле Джаджа, чинно сложив руки на коленях и изо всех сил пытаясь не расплыться в улыбке от переполнявшей меня гордости, потому что папа учил нас быть скромными.
В такие минуты лицо у папы становилось отстраненным, как на том фото, что напечатали в газете вместе с большой статьей, когда ему присудили премию «За вклад в борьбу за права человека». Это был единственный случай, когда он позволил себе появиться на страницах газеты, и то по настоянию его редактора, Адэ Кокера. Тот утверждал, что папа заслуживает славы и что он слишком скромен. Об этом мне рассказали мама и Джаджа, папа о таких вещах не говорил. Отрешенное выражение сохранялось на папином лице до самого конца проповеди, пока не начиналось причастие. Приняв причастие, папа возвращался на свое место и наблюдал за людьми, которые торжественно шли к алтарю. В конце службы он подходил к отцу Бенедикту и с озабоченным выражением лица рассказывал, кто из прихожан пропустил причастие. Он призывал преподобного навестить этого человека, спасти от разверзающихся под ним врат ада и вернуть в лоно церкви, ибо только смертный грех мог удержать верующего от причастия целых два воскресенья подряд.