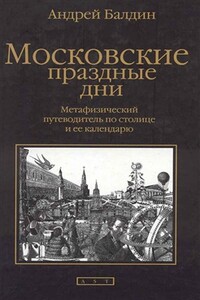I
…В какой-то момент мое толстовское исследование перевернулось, как лодка, все пассажиры которой встали на один борт.
Перевернулось по двум причинам.
Первое. Были наконец закончены отвлеченные наблюдения, когда я только и делал, что отыскивал особого рода чертежи, спрятанные в толще романа «Война и мир». Разумные фигуры, скрытые схемы в виде квадратов и кругов — роман был полон ими.
Точнее, так: чертежи были подложены под страницы книги; действие романа шло согласно их скрытым указаниям. Судьбы героев прояснялись на этих чертежах, они тянулись линиями, пересекались разнообразно и закономерно. Некоторые линии были изломаны. Я соединял их — составлялись фигуры отношений, кривобокие трапеции и звезды.
Главнейшей из всех была первая, исходная фигура, с которой, собственно, и началось это исследование. Она была конусообразна; смысл ее был в том, что весь роман вспоминает Пьер. Конус его памяти, обращенный от конца книги к началу, охватывает и освещает все необъятное строение «Войны и мира». Наблюдая этот светлый конус, правильную фигуру (света), я делал вывод: роман «Война и мир» есть подробнейшее, тотальное описание одной секунды жизни Пьера Безухова.
Кому-то это может показаться химерой; я и сам временами отказывался верить в этот чудный конус, вспышку памяти Пьера, но затем возвращался к своей геометрической теории. И — продолжалось черчение, отстраненный, «смотрящий» разбор романа.
Странно, за все это время я ни разу не задумался над одним простым вопросом: зачем Толстому понадобился этот композиционный подвиг, упаковка громадного романа в одно мгновение жизни героя?
Серьезный вопрос. Но — внешний, сторонний. Я об этом не задумывался; я оставался внутри бумаги, по ту сторону страницы, среди невидимых, подложенных под текст фигур. Они были (они и есть) прекрасны.
И вот мое геометрическое, отстраненное от романа, бестелесное наблюдение завершилось.
Таким было первое обстоятельство, приведшее к перевороту в моем толстовском исследовании.
Второе обстоятельство было просто, но не менее важно. Я добрался, наконец, до Ясной Поляны[2] — и бестелесное стало телесно, тайный чертеж романа лег на сырую землю. Темные деревья, борясь с ветром, замотали головами, стали поверх бумаги; все изменилось в один миг.
II
По дороге в Ясную было два предупреждения. Оба стоит рассмотреть внимательно, оба о воде.
Первое было — Ока.
Белый писательский автобус долетает от Москвы до Тулы одним движением, по карте сверху вниз: новое Симферопольское шоссе прямо как стрела. Движение так скоро, так пусты окрестности (дорога идет мимо городов), что не успеваешь толком оглянуться по сторонам.
Только один перерыв случается в этом движении: примерно в середине пути распадаются дорожные шоры, влево и вправо открываются широченные, покойно лежащие дали, как будто принадлежащие другому, перпендикулярному миру; небо вздыхает и поднимается гладким куполом. Дорога обращается в узкий длинный мост и одним движением перемахивает через Оку.
…Для того, кто внимательно следит за русской картой, за ее неравномерным, прихотливым строением, очевидно, что по Оке проходит важная внутренняя граница России. Здесь медленно и молча идущий по Оке поток пространства отчеркивает московские земли от тульских, отделяет большую московскую голову от тела, от туловища Тулы.
Метафизический русский атлас делается в этом месте анатомическим.
На окской границе заканчивается особого рода гравитация, свойственная подмосковной земле. Тот, тульский берег есть уже другая страна: возвышенная, собранная из пологих, мягко очерченных холмов; даже не холмов, но плавных линий, и даже не линий, но одного только бесконечно-пологого движения. Как будто эту землю погоняет и широкими кругами разглаживает ветер…
Так-то, на первый взгляд, все на тульском берегу то же, что на московском: те же светлые леса, протекаемые пустыми полями, те же редкие деревни, которые, словно с размаху, горстями, брошены в разреженное пространство. Городов не видно. И все же это другая земля, и те же деревни и даже отдельно стоящие вдоль дороги короба домов ведут себя по-другому. Они не оглядываются на Москву, как это делают их подмосковные собратья; здесь всякое строение, видимое или невидимое, смотрит в свою сторону. Большей частью в небо. Здесь — Заочье, земля за Окой — провинциально свободная, не отягченная столичным заданием. Она дышит самостоятельно, смотрит свои сны; у нее легкое дыхание.
Так же, думается, и тульская мысль, и текст не должны быть зависимы от московской гравитации. Хочется, чтобы они строили себя, не отвлекаемые никаким московским магнитом.
Так, наверное, и было когда-то, пока не пролегла эта прямая, как выстрел, дорога, способная за два часа забросить вас в Москву.
Здесь властвуют свои суеверия, свои лесные духи запутывают ветви в чащах до состояния войлока; это вязание-плетение также подчинено особой, немосковской геометрии, принципы которой столичному гостю еще предстоит разгадать.
Пока я приглядываюсь из окна к здешней архитектуре; скорый бег автобуса не дает уловить каких-то особых отличий, только те, что сразу бросаются в глаза. Вот что видно: христиане здесь строят храмы на свой манер — с отдельно стоящими невысокими колокольнями, шатры которых телескопически «вдавлены», словно кто-то нажал сверху пальцем, чтобы колокольня не выросла выше храма.