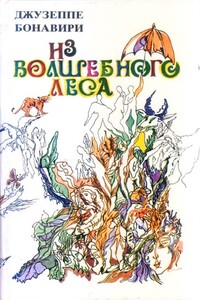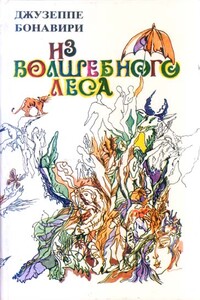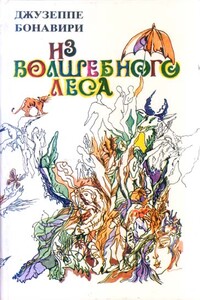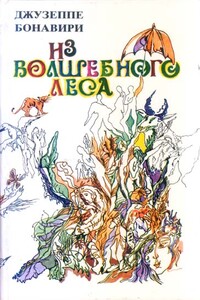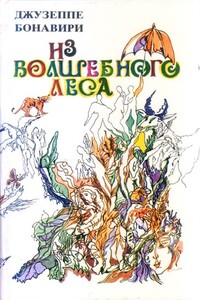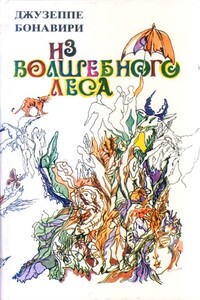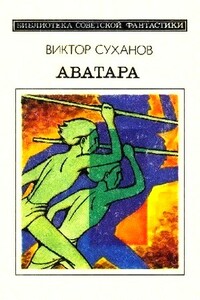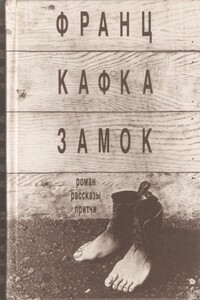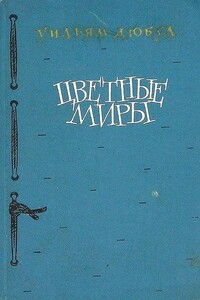Пеппи Малоежка подводил хозяйке оседланного коня по кличке Барбаросса; тот сладко зевал, обнажая длинные желтые зубы. Донна Тереза Радиконе прыгала на него с каменной ограды и по-мужски усаживалась в седло.
— А что твоя жена, все еще спит? — спрашивала донна Тереза. — Можно подумать, ей не надо кормить свиней, подметать двор, просеивать зерно!
— Надо-то надо, ваша милость, — отвечал Пеппи, теребя расстегнутый ворот залатанной рубахи и потирая красные от хронического конъюнктивита глаза. — Да Маранедде со дня на день родить, вот она и бережется.
— Еще бы, если каждый год рожать, так можно жить припеваючи, — замечала донна Тереза, подхлестывая коня.
Животное, неохотно передвигая тощие, облезлые ноги, начинало огибать по самому краю оврага кусты опунции, разросшиеся перед домом, рядом с навозной ямой.
Счастливые, спят еще, втайне завидовала крестьянам донна Тереза, спускаясь по улочке вдоль крепостных стен. Почти все двери были закрыты, и на улице можно было лишь изредка увидеть свинью, спящую в подсохшей грязи, а из-за гор тем временем растекался молочный свет, словно его выплескивали большими ведрами.
— Благословите, донна Тереза! — окликал ее спозаранок какой-нибудь встречный крестьянин на окраине деревни, где выстроились в ряд тележки с поднятыми вверх оглоблями.
Только пастухи в облаке пыли гнали коз мимо крепостных стен; козы жались друг к другу, наполняя пробуждающийся воздух звоном колокольцев. Солнце еще не показывалось, а словно позевывало себе там, за горами, и не решалось начать восхождение. Вокруг полосами краснозема и чернозема лежала иссохшая равнина: повторные посевы пшеницы, одинокие оливы с распростертыми в постепенно светлеющем воздухе ветвями. Барбаросса плелся, не поднимая от земли гноящихся глаз, его худосочная тень то возникала, то исчезала на обочине. Донна Тереза думала о том, что ее муж, — дон Фердинандо, прав: надо купить у дона Николы участок земли и расширить их огромное имение до самых склонов Кальтаджироне. Как бы это половчее оттягать у старика землю, размышляла она, спускаясь в долину Фьюмекальдо по белым каменистым склонам, поросшим фисташковыми и оливковыми деревьями. До гумна еще по меньшей мере два часа пути.
Издали, в тени редкого колючего кустарника, она увидела крестьян, которые закусывали помидорами и хлебом.
— Эй, вы не устали еще брюхо набивать? — крикнула донна Тереза, подъехав поближе к крестьянским домишкам.
— Угощайтесь, ваша милость! — предложил Гаспаре, крестьянин в низко надвинутой шапке и с ножом в руке, на который он то и дело насаживал помидоры из большой глиняной миски.
— Пока не припекло, работать надо! — не унималась донна Радиконе. — Пшеница на гумне, ее просеивать пора, а вам бы только нажраться — да на боковую, знаю я вас, всеми правдами и неправдами кусок себе урвете.
Первыми поднялись женщины во главе с тетушкой Меной, той самой, у которой одно плечо выше другого, зубов раз-два и обчелся, а десны красные и распухшие.
Они разместились вокруг гумна, на рыжеватом косогоре, меж стволов опунции; снизу долетал легкий ветерок, как будто там стояли крестьяне и специально дышали на них. Посреди гумна было свалено уже обмолоченное зерно (молотят его ослы или мулы, которых погоняет крестьянин, напевая заунывные сарацинские песни, чтоб не разморило от жары).
Тетушка Мена взяла железное, поблескивающее на солнце сито. Ее примеру последовали Русидда, девушка с обгоревшей на солнце шеей, и тетушка Кармела с большими обвисшими грудями. Они набирали из большой кучи в сито зерно вместе с мякиной и, согнувшись, веяли его; бедра у них колыхались, словно пышные хвосты. Донна Тереза подоткнула юбку, обнажив худые колени, — так ей ловчее было двигаться — и принялась им помогать, одновременно отдавая распоряжения мужчинам:
— Эй, вы, хватит прохлаждаться! Беритесь за лопаты! Вам бы только ныть да поплевывать! Живей, живей кидайте! Ведь еще и в Поццилло, и в Кастеллуччо, и в Пьяне молотить надо!
Трое крестьян засучили рукава, и в воздухе замелькали черные лопаты. Пшеница, отсеянная от мякины хилым ветерком, веером разлеталась над землей и падала с глухим шелестом. Но вскоре зной стал невыносимым, воздух накалился от огненных лучей и замер неподвижно до самых остроконечных вершин Кальтаджироне. Листья на оливах словно оцепенели.
— Посидим в тенечке возле дома, — говорили крестьяне. — Надо переждать жару.
Донне Терезе нечего было возразить, но, заметив длинные вереницы муравьев, растаскивающих от гумна пшеницу, она все же приказывала:
— Хоть муравьев перебейте, вон они крадут у нас хлеб из-под самого носа!
Работу возобновляли при малейшем дуновении ветерка. После полудня, закусив хлебом и сыром, люди устраивались вздремнуть — кто на выщербленных ступеньках, кто за домом, — а донна Тереза даже сквозь сон слышала легкое движение воздуха и будила всех:
— Вставайте! Ветер подул! Пошли просеивать, а то все лето здесь проторчим!
Через несколько дней крестьяне приводили на гумно мулов и ослов, чтобы перевезти в Минео пшеницу, уложенную до последнего зернышка в большие, наскоро зашитые мешки — в каждом четыре пуда чистого, гладкого, золотистого зерна. Поскольку дон Фердинандо в эти дни был на молотьбе в Кастеллуччо, вместо него приезжал Пеппи Малоежка блюсти хозяйские интересы. В Минео с наступлением вечера зажигали лампы, которые крестьянам с гор Камути казались иллюминацией, ведь им-то самим приходилось пользоваться масляными коптилками и в полумраке они с трудом узнавали друг друга.