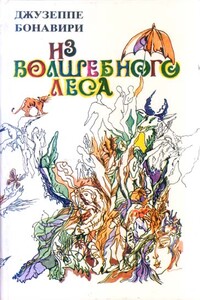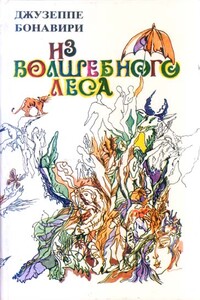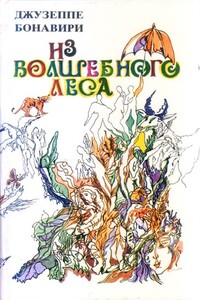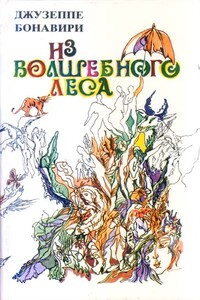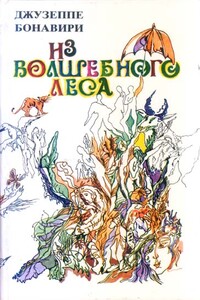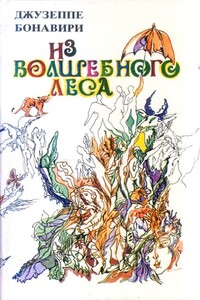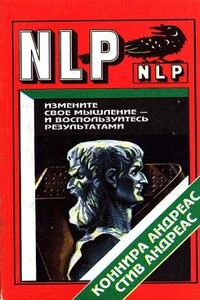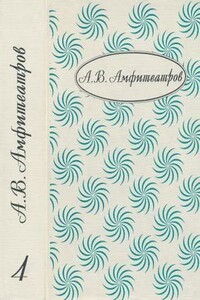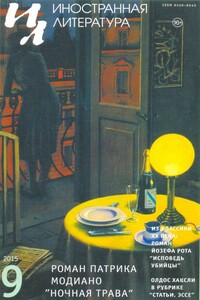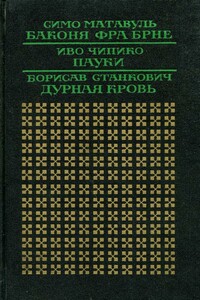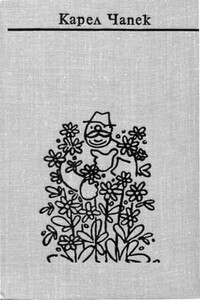Улица Ромулеа, 5, третий этаж. Именно там они и родились. Отец (невысокий, с аккуратным кругленьким брюшком, в черных, всегда начищенных до блеска ботинках и очках в золоченой оправе) давно покинул родную деревню Минео и служил в префектуре, получая четыреста пятьдесят лир в месяц. Из этих денег синьору Томазелли (назовем его так, Бог свидетель, фамилия ничуть не хуже других!) удавалось содержать квартиру, покупать сыновьям школьные учебники (ну да, конечно, близнецам, других детей у него не было!), прилично одевать жену (худую, с густыми бровями и усиками на верхней губе, которые она нещадно выщипывала) и водить ее по субботам в театр (помилуйте, какое кино, его тогда еще не было!), если, конечно, он не был простужен и не кутался в женину шаль, то и дело сморкаясь в огромный носовой платок, отчего нос распухал и краснел. В этих случаях Жервезу (красивое имя, не правда ли? Он обожал это имя!) сопровождал синьор Скуаццони (честнейший человек, преподаватель или, попросту говоря, учитель начальной школы, вдовец, смуглый, стройный, как кипарис, очень набожный, едва ли не святой, дома у него ступить некуда от трактатов по теологии и требников). Нет, напрасно соседи показывают пальцем на синьора Томазелли, чиновника префектуры Его Величества Виктора Эммануила III, напрасно смеются и злословят, что-де близнецы у него родились после знакомства с синьором Скуаццони. Пусть хоть лопнут от злости, а Жервезе надо же с кем-то пойти в театр — одной по тем временам показываться на люди было неприлично. И вообще, к сведению достопочтенной публики, его сыновья — это его сыновья. Синьор Томазелли чихал, из носу капало, и от разных неприятных мыслей он машинально выдергивал волоски из щетки, лежавшей на столике рядом с потрепанным томиком «Отверженных» Гюго. Да-да, «Отверженных», ибо синьор Томазелли, благочестивый итальянский гражданин, и причащался раз в неделю (нет-нет, синьоры, никаких грехов за ним не было!), и в Бога верил, но все же многого не признавал — к примеру, святых: что еще за святые, кто их таковыми объявил и за какие заслуги? А дева Мария — да кто она такая? Кто? По ассоциации синьор Томазелли вспоминал о жене, а заодно и об учителе Скуаццони, при этом он рассекал кулаком воздух (а все-таки красивое у него золотое кольцо на безымянном пальце, не правда ли?), и аккуратненькое брюшко слегка сотрясалось.
Но по воле Господа в один прекрасный день (как принято говорить) год спустя после благополучного выхода на пенсию его нашли мертвым в кресле, голова свесилась набок, а рука застыла на той строке «Божественной комедии», где Франческа говорит Данте: «И книга стала нашим Галеотом, никто из нас не дочитал листа». Прекрасная кончина с великой книгой в руках — именно о такой смерти он мечтал.
Народ на улице (очень, кстати, многолюдной) не обратил никакого внимания на синьора Томазелли (я имею в виду — на покойника), проезжавшего на катафалке с лепными ангелочками по бокам; за гробом никто не шел. На кладбище (сколько деревьев, розовых кустов, как прекрасен запах свежей земли — благодать Господня!) поверх гроба кинули несколько лопат земли и водрузили тяжелый серый камень, на котором было выведено чернильным карандашом: «Томазелли, — (эти мошенники даже не удосужились прибавить «синьор»!), — 1860–1922». Могильщик произнес: «Мир праху его!» Вот именно, «Мир праху его!». Этот сопляк в сдвинутой набекрень кепке, дырявой куртке и с перепачканными землей руками и не ведал, что здесь покоится синьор Томазелли, бывший служащий префектуры, пенсионер, гражданин Италии, подданный короля Виктора Эммануила III, почивший над «Божественной комедией». В тот вечер солнце, как всегда, поднялось над вершинами кипарисов и опустилось за холмы, а вечерний трамвай проследовал по своему обычному маршруту от Аккуичеллы до Соборной площади, мимо спешащих домой прохожих. Ах, неблагодарный мир, ты и думать забыл о синьоре Томазелли! Спасибо еще, что в день Поминовения (на кладбище ярко светит солнце и много нарядных гомонящих посетителей) синьор Скуаццони с синьорой Скуаццони (ну да, с Жервезой… Нет, не осуждайте ее, что вы, в самом деле? На то и вдова, чтобы снова выйти замуж! Странная у вас логика, не бросать же вдов на произвол судьбы!), хорошо еще, что (да не сбивайте меня с мысли, я уж и так повторяюсь!) синьор Скуаццони и синьора Скуаццони положили букетик хризантем (белых, свежих, купленных за полторы лиры, а полторы лиры в то время на дороге не валялись) возле памятника синьору Томазелли. И синьора Скуаццони, в новой шляпке, украшенной очаровательными голубыми перышками, и с черным пушком, пробивающимся на верхней губе, влюбленно посмотрела на мужа (да нет, не на синьора Томазелли — на нового мужа!) и сказала: «В общем-то он был неплохой человек!»
Ох, до чего ж я рассеян! Назвал рассказ «Близнецы», а сам все о синьоре Томазелли. Непростительная оплошность… Ну так как, синьоры, на какой срок вы меня осудите? А что, по-моему, нелишне было бы ввести в Гражданский кодекс статью, предусматривающую наказание для рассеянных писателей (к стыду своему, я тоже к ним принадлежу!): за каждое лирическое отступление — столько-то штрафу… за отклонение от темы, к примеру, — энное количество ударов плетьми.