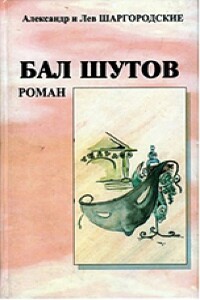Я появился на свет на восемнадцатом году революции, и все было бы хорошо и радостно в моей жизни, если бы не одно обстоятельство — мои дедушка и бабушка родились, к сожалению, задолго до…
Они, конечно, не были виноваты в этом, да и появись они позже меня, возможно, и сейчас бы не было — и все-таки факт их появления при капитализме меня смущал. Дело в том, что в их сознании была масса пережитков. И, несмотря на то, что ежедневно они с ними боролись, что им помогала в этом общественность — пережитки сдавались с большим трудом.
У дедушки и бабушки было одинаковое количество пережитков, но, если быть честным до конца, у дедушки было на один больше. И вот с этим-то пережитком никакая общественность, никакие указы и постановления, никакое отделение церкви — в данном случае синагоги — от государства — ничего не могли поделать.
Судя по всему, дедушке было суждено с этим пережитком жить, и, как видно, умереть.
Была у этого пережитка довольно странная особенность — он не бросался в глаза. Вы могли с этим человеком беседовать, пить вино, работать бок о бок — и даже не догадываться, что пережиток существует. Но стоило пойти с ним в баню или искупаться лунной ночью в чем мать родила — как пережиток прямо-таки бросался в глаза. Поэтому с некоторых пор, а точнее — с октября семнадцатого года дедушка перестал посещать баню, правда, одновременно продолжая посещать синагогу, которую закрыли только в декабре.
Мало помалу о дедушкином пережитке стали забывать и помнили о нем только бабушка да несколько евреев, с которыми дедушка любил поплавать лунной ночью до революции…
И наверняка бы забыли! Как вдруг, совершенно неожиданно, дедушке ударило в голову наделить этим пережитком меня! Меня, родившегося на восемнадцатом году после! Замысел был коварен. Бабушка с дедушкой решили обмануть моих родителей, всецело занятых строительством нового мира и почти не бывавших дома.
Вечером, за чаем, они разрабатывали план операции и, едва заслышав шаги мамы или папы, затягивали «Смело, товарищи, в ногу»…
Папа подозрительно косился на них, явно видя в этом подвох, но дедушка с таким энтузиазмом, выводил «Грудью окрепнем в борьбе», что папа махал рукой и садился ужинать.
Бабушка кормила папу вкусно, хотя ни о каких фаршированных рыбах, цимесах и вументашен и речи быть не могло — придя в дом, папа запретил это раз и навсегда.
Папа был сторонником интернациональной пищи и требовал, чтобы в доме в его присутствии говорили по-русски… Поэтому бабушка с дедушкой, плохо знающие русский, в его присутствии молчали…
— Мне достаточно, — говорил папа дедушке, — что я терплю ваш пережиток, уважаемый Моисей Соломонович.
— Какой еще пережиток? — обычно спрашивал дедушка, — какой вы имеете в виду?
— Тот самый, — отвечал папа, — тот самый!
Дедушка никак не мог понять, как папа узнал о его пережитке.
— Но послушайте, Абрам Исаакович, — возражал дедушка, — вы же не будете отрицать, что от некоторых пережитков мы избавились. Мы, слава богу, уже не живем в отдельном доме. Свою мастерскую по ремонту галош я передал нашему государству, я уже не пою в еврейском хоре. Что вы еще хотите?!
— Это потому, что мы закрыли синагогу, — объяснял папа, — а то вы бы там пели и пели и мешали бы нам строить новый мир.
— Боже мой, — говорила бабушка, — Кто вам мешает? Стройте себе на здоровье! Кто вам мешает?
— Кто?! — Папа делал несколько шагов и рывком открывал шифлед. — А это что? — папа указывал на перевязанный пакет. С этим можно строить новый мир?!
Бабушка с дедушкой переглядывались.
— Только не делайте вид, что вы не знаете. Это — маца! Как она попала в мой дом? — говорил папа.
— Это с до революции, — объяснял дедушка, — с тысяча девятьсот шестнадцатого.
— Почему же она такая свежая?! — интересовался папа, развязывая пакет.
— С чего вы взяли? — говорил дедушка, — вы попробуйте…
— Я?! — вскрикивал папа. — Вы мне предлагаете мацу?!!
— Так вы же говорите, что она свежая, вот я вам и предлагаю проверить.
Папа белел.
— Члену партии, — выдавливал он, еле шевеля губами, — мацу?!! Чтобы завтра же ее не было в доме, или послезавтра в нем не будет меня!..
— Ради бога, — отвечал дедушка и в знак примирения затягивал «Вихри враждебные»… Бабушка тут же подхватывала, и этот сводный хор завершал дискуссию. Папа махал рукой и шел изучать историю партии.
И вот однажды, когда папа уехал в командировку — он время от времени поднимал то сельское хозяйство, то промышленность, то искусство, а мама, как всегда, занималась окончательной ликвидацией безграмотности среди некоторых частей населения, — бабушка с дедушкой завернули меня в покрывало и понесли куда-то, на самую окраину городка, в какой-то домик, откуда вскоре вынесли, но уже не того меня, а меня с пережитком…
В свое оправдание должен сказать, что я яростно сопротивлялся. Я кричал, отчаянно махал руками, одновременно дергал обеими ногами и даже укусил склонившегося надо мной бородатого человека с ножом в руках — но силы были явно неравными…









![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)