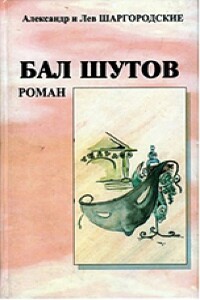ЛАРИСЕ И ЛИНЕ
Славой города был театр.
В него ломились. Выносили двери и окна. Сносили конную милицию. Валили бюст основателя.
Основатель стоял без носа.
Там поражали воображение, опрокидывали представления, заставляли трепетать.
Там пылали страсти и даже дрались.
В городе говорили только о театре.
— Вы вчера были? Потрясающе! Эклеры с семгой и муссом из дичи! Такого еще не бывало!
— Ну, как же, как же, у Мейерхольда. У меня до сих пор вкус той семги.
— Что вы говорите?! Во — первых, семга бывала у Таирова и, во — вторых, — без мусса!
Заядлыми театралами был весь город.
— Вы идете? Мы идем!
— А что дают?
— Что‑то новенькое! Вроде, севрюга в слойке…
Театр преуспевал…
Там иногда выкидывали такое, чего не помнили и у Станиславского. Например, рулет из поросенка с черносливом. Или волжский балык — им удивляли при Чехове. Там давали сливки, взбитые с брусникой и шоколадом. Фромаж из дичи в апельсине, креветки и судак в кляре.
Оперный театр со своей «Богемой» собирал какую‑то сотню, а тут на миноги притащилось около полутора тысяч. Правда, миноги случай был особый. Его помнили долго. Повалили стойку буфета, и троих театралов увезли в хирургическую клинику с переломами черепа. Да, славой города был, безусловно, театр, но славой театра был, без сомнения, буфет.
Шли прямо туда, минуя зал, с кошелками.
Чтобы загнать зрителей в зал, на помощь билетершам часто приходила вся труппа, иногда пожарники.
Когда в буфете бывала кайса с курагой и цыплята в кокоте — помогал только брандсбойт.
В зале хотели ввести пристегнутые ремни, как в самолете, не отстегивающиеся до конца акта.
Что бы ни показывали на сцене — перед глазами театралов плавал молодой поросенок, летали жареные куропатки, пролетал помидор, фаршированный крабами.
Окончание акта приветствовалось бурей аплодисментов — можно было нестись в буфет.
По дороге падали, ползли по телам, некоторые кричали «Банзай!»
И на следующий день опять разговоры.
— Вчера было что‑то особенное. Незабываемое!
И облизывались.
Как театру удавалось иметь такой буфет — не знал никто.
Поговаривали, что директор театра, Орест Орестович, в свое время был ответственным за компоты в Кремле и поэтому имел в этой отрасли неслыханные связи…
Кроме буфета, в театре была еще и труппа, которую возглавлял главный режиссер Олег Сергеевич Ястремский — обладатель совершенно необычайного таланта, о котором поговорим особо…
Театр назывался «Театром Абсурда», и это таки был сплошной абсурд — кто‑то из актеров косил, другой прихрамывал, третий — шепелявил, художник был дальтоником, композитор — туг на ухо, заведующий литературной частью не умел читать, а Главный — ставить…
И все вместе обожали авторов.
Их встречал швейцар, в ливрее, с бородой.
— Ивана Грозного, — объяснял он, — из «Великого Государя».
Швейцар лично, по мраморной лестнице, вел смущенного автора в кабинет Главного.
— Вот, — говорил швейцар, — по вашу душу.
При виде авторов Главный всегда вскакивал, долго целовал драматурга, прижимал к груди его, пьесу и всегда спрашивал:
— Почему одна?
— А сколько? — интересовался растерянный автор.
— Две! Четыре! Вы не представляете, как вас любит наш театр!
Завтра же занесите. Театр — это ваш дом, это очаг, это ваше убежище. Театр — это…
Главный говорил много.
Автор краснел, смущался, заикался, с благодарностью жал руку и тут замечал, что это рука не Главного, а швейцара, причем жесткая, кирпичного цвета, из папье — маше.
Автор вздрагивал.
— Не бойтесь, — успокаивал швейцар, — ладошка государя. Душила царевча, «Царь Федор Иоанович».
Автор несколько успокаивался.
— А — а где же Главный? — спрашивал автор.
— В проруби, — отвечал швейцар, — вернее, в морозильнике. Они очень любят там сидеть. Они морж. Они философ. Им решения спектаклей в нем являются.
Это была правда. Главный любил зимние купанья. Они спасли его от белой горячки и слабоумия.
Однажды, вдрызг пьяный, он провалился под лед, на Неве, градусов в сорок, и протрезвел.
С тех пор, раза два в день, он бежал к проруби. Зимой.
Летом было сложнее. Он достал себе американский холодильник «Вестинг хауз» и с трудом влезал в него, в трусах, на босу ногу. Морозильник вполне заменял ему прорубь.
Кроме того, театр был известен своим репертуаром. Никому в стране не разрешали таких смелых пьес, сатирических комедий, драм зарубежных авторов, как ему.
Тут было две причины.
Во — первых, необычайный талант главного режиссера — сатирической комедии он выбивал зубы, трагедию превращал в фарс, зарубежных драматургов — в советских, критику — в аллилуйю, и вообще своими постановками с невероятной легкостью доказывал, что Чехов графоман, а Теннеси Уильямс на грани слабоумия.
Его ценили и все разрешали.
Во — вторых, как вы уже догадались — буфет.
Руководители знали: что бы Главный ни поставил, все равно зритель увидит бутерброд, ожидающий его в антракте.
Так текла пасторальная театральная жизнь, пока вдруг Главному, — какая муха его укусила? — захотелось в театр помимо хорошего бутерброда — талантливого режиссера.
И он пригласил Гуревича.
Эта была одна из основных жизненных ошибок Главного.
Гуревич был вне систем. Откровенно гениален. И повсюду тянул за собой скандал — каждый второй его спектакль запрещался, вызывал толки, опрокидывал Станиславского и прочих.