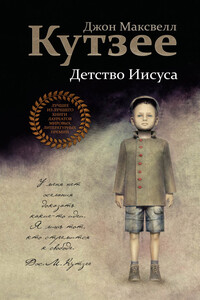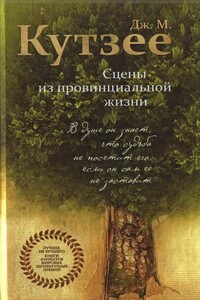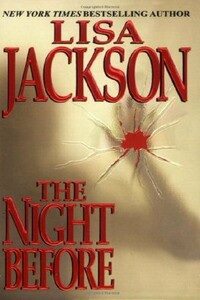Она едет к дочери, в Ниццу, это ее первый визит за много лет. Ее сын вылетит из Соединенных Штатов, чтобы провести с ними несколько дней, по пути на одну из своих конференций. Как интересно, такое совпадение дат. Она задается вопросом, нет ли тут сговора, нет ли у этих двоих какого-то плана, какого-то предложения, которое дети делают родителю, когда они чувствуют, что он больше не может заботиться о себе. Она так упряма, что они сказали друг другу: она так упряма, так несговорчива, так своенравна, что как еще справиться с ее упрямством, кроме как действовать вместе?
Они любят ее, конечно, иначе бы они не строили таких планов. Тем не менее, она действительно чувствует себя одним из римских аристократов, ожидающих вручения чаши с ядом и ждет, когда ему скажут самым добрым, самым отзывчивым образом, что для общего блага нужно пить чашу без страха.
Ее дети всегда были хорошими и послушными. Будет ли мать, такой же хорошей и послушной — еще вопрос. Но в этой жизни мы не всегда получаем то, что заслуживаем. Ее детям придется ждать другой жизни, другого воплощения, если они хотят, чтобы счет был выровнен.
Ее дочь управляет художественной галереей в Ницце. Ее дочь, в настоящее время, во всех отношениях француженка. Ее сын, со своей американской женой и американскими детьми, скоро, во всех отношениях станет американцем. Итак, вылетев из гнезда, они улетели далеко. Можно даже подумать, если не знать их хорошо, что они улетели так далеко, чтобы быть подальше от нее.
Какое бы предложение они ни выдвинули ей, оно обязательно будет наполнено двойственностью: любовью и одиночеством, бессердечностью и желанием увидеть ее, наконец. Ну, двойственность не должна ее отвратить. Она зарабатывала на жизнь за счет двойственности. Где было бы художественное искусство, если бы не было двойственности? Чем бы жизнь сама по себе была, если бы были только головы или хвосты, и ничего между ними?
— Что я нахожу жутким, когда я становлюсь старше, — сказала она своему сыну, — так это то, что я слышу из своих уст слова, которые я когда-то слышала, как старые люди говорят и клялась, что я никогда так не скажу. Куда катится мир и прочее. Например: никто, кажется, больше не знает, что глагол «мочь» имеет прошедшее время — куда катится мир? Люди идут по улице, едят пиццу и разговаривают по телефону — куда катится мир?
Это его первый день в Ницце, ее третий: ясный, теплый июньский день, такой день, который хорош для праздной лености людям из Англии на этом участке побережья, в первую очередь. И вот, вот они, вдвоем, прогуливаются по английской набережной, как это делали англичане сто лет назад со своими зонтиками и лодочниками, сожалея о последних усилиях господина Харди, сожалея о Борах.
— «Сожалеть», — говорит она, — слово, которого не слышно в наши дни. Никто с чувством не сожалеет, если только они не хотят выглядеть смешно. Ушедшее слово, ушедшее чувство. Но что же делать? Сдерживаться, сожалея, пока не окажешься с такими же стариками и не обсудишь с ними все это вдоволь?
— Ты можешь сожалеть со мной так, как хочешь, мама, — говорит Джон, ее добрый и послушный сын. — Я буду кивать сочувственно и не стану тебя высмеивать. О чем еще ты бы хотела посожалеть сегодня, кроме пиццы?
— Дело не в пицце, я не о ней сожалею, пицца хороша, в свое время и в своем месте, но идти, есть и говорить, все одновременно, это невежливо.
— Я согласен, это невежливо или, по меньшей мере, неуместно. Что еще?
— Хватит. То, что я сожалею, само по себе не представляет интереса. Что представляет интерес, так это то, что я клялась много лет назад, что никогда не буду так делать, и вот я делаю именно так. Почему я поддалась? Я сожалею о том, куда катится мир. Я сожалею о ходе истории. От всего сердца я сожалею об этом. Но когда я слушаю себя, что я слышу? Я слышу, как моя мать сожалеет о мини-юбке, осуждая электрогитару. И я помню свое раздражение. «Да, мама,» — говорила я, скрипя зубами и молилась, чтобы она заткнулась. И…
— И поэтому ты думаешь, что я скриплю зубами и молюсь, чтобы ты заткнулась.
— Да.
— Но я этого не делаю. Вполне естественно сожалеть о том, куда катится мир. Лично я тоже сожалею об этом.
— Но мелочи, Джон, мелочи! Это не просто грандиозный ход истории, о котором я сожалею, это мелочи — плохие манеры, плохая грамматика, шум! Это такие мелочи, которые раздражают меня, и это именно то, что заставляет меня впадать в отчаяние. Это же все так неважно! Ты понимаешь? Но, конечно, нет. Ты думаешь, что я смеюсь над собой, но я не смеюсь. Это все серьезно! Ты понимаешь, что все это может быть серьезно?
— Конечно, я понимаю. Ты очень ясно выражаешься.
— Но нет же! Нет! Это всего лишь слова, и мы все уже устали от слов. Единственный способ доказать, что ты серьезен — покончить с собой. Упасть на свой меч. Вышибить себе мозги. Но как только я говорю, ты улыбаешься. Я знаю. Потому что я не серьезная, совсем не серьезная — я слишком стара, чтобы меня принимали всерьез. Убей себя в двадцать, это трагедия. Убей себя в сорок, и это отрезвляющий момент для людей, на какое-то время. Но убей себя в семьдесят, и люди скажут: «Как неловко, у нее, должно быть, был рак».