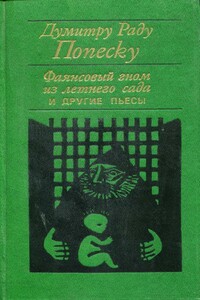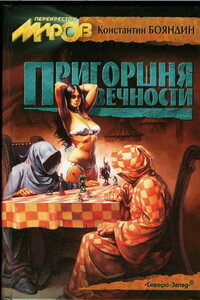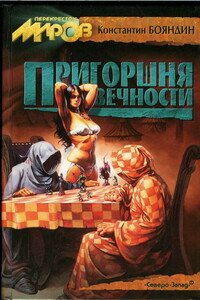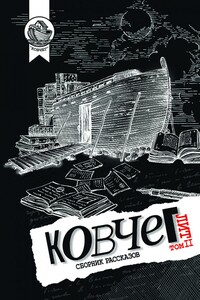I
Ночь сгущалась, загнивала, петухи застыли на ветках шелковиц, будто глиняные, и жестяные замерли на крышах — все цепенело, умирало, чтобы пробудиться снова и потом снова умереть. И так каждую ночь. Окраины села Анастасия не видела, надо всем повис кладбищенский мрак, холодный, неподвижный. Во дворе Кифэ жеребилась кобыла, время от времени доносились ее стоны. В окно уже ничего не было видно, ночь чернела, будто пасть суки, щенков которой утопили в Дунае. Кобыла не смогла ожеребиться — подохла… как подыхали до нее и другие, распластавшись на земле. Кровь впитывалась землей так быстро, что не оставалось пятна. Анастасия не видела из окна кобылу, но догадывалась, где она лежит. В горнице стула не отличить от стола, от других вещей — все слилось воедино, все было черным. Ночь затопила и дом, и двор, и село, и всю округу, словно протухшая, зловонная жижа. Шкаф поскрипывал, как старый ревматик: скрип, скрип… Наконец Анастасия заснула, и привиделось ей, будто у нее стали выпадать зубы, передние и коренные: сыпались изо рта, как бусины. Ночь подступила вплотную к одеялу, к полу, к глазам. Дверь скрипела в петлях, как сварливая потаскуха.
Каждую ночь подыхала кобыла. А если и не подыхала, то ей, Анастасии, снилась та, что подохла предыдущей ночью или две ночи назад. Она протянула руку к стоящему возле кровати кувшину с водой. Напилась, не видя его. Не видя руки. Кругом слепота. Будто и вправду она ослепла — такой густой стоял мрак. Как-то весной, такой же слепой ночью, она тоже не спала и слышала сухое потрескивание стульев, будто во тьме хрустели пальцы. Потом за окном налетел черный смерч, пронесся над селом, губительный, воющий. И умертвил птиц, всех до единой. Поутру она увидела на акациях, на орехах, на всех деревьях мертвых воробьев, висящих вниз головой, вцепившихся лапками в ветки. Вдруг началась оттепель, и воробьи стали чернеть, гнить на ветках. С деревьев падали птичьи перья и комочки того, что было когда-то живым. Мертвые воробьи висели вниз головой, напоминая гниющие сердца. А некоторые сгнили в гнездах. И развелись там черви. Правда, погода была переменчива и не дала им расплодиться: ночью молоко замерзало в коровьем вымени, днем солнце обжигало землю. Смерть разгуливала по деревьям, по веткам, как у себя дома. Анастасия была больна тогда. Боялась помереть ночью и ничего после себя не оставить: ни детей, ни мужниной любви, ни цветов, ни корней — ничего. Ведро воды, горячую лепешку — кто подаст на помин ее души? Деревня была опустелая, а она пришлая, из чужого села, даже захудалой родней не обзавелась. Анастасия задремала опять, и приснилось ей, будто она подметает в доме, во дворе и расчищает дорожку к школе. Проснулась она в поту. Ночь все еще тянулась.
Мир будто погрузился на дно ямы, прямо в преисподнюю. Анастасии же снилось, что она медленно бредет по полынному полю, запах по нему разливается одуряющий. Она проснулась. Под окнами тек, плескался мутный Дунай. Ночью воды его черным-черны. Дунай сливался с землей и был похож на черный мост, соединивший берега, которых не было видно. Она глядела в окно и не различала, где вода, где суша. Вспомнила, как однажды вечером переправились сюда от сербов сто человек, сто коней и все люди держались за лошадиные хвосты. Над водой виднелись конские морды, мокрые гривы. Чуть позади, метрах в двух от конских морд и грив, — человеческие головы. Голова коня — голова человека. Потом река утихла. Пограничники, двое румын, видели их. И будто не видели. Она смотрела, как сербы выходили во тьме из воды, голые люди и кони, как исчезали в лесу. И было это словно во сне. И все они несли ношу на спине. Те двое, пограничники, румыны, будто подстерегали их и будто совсем не их подстерегали. Кони крались к берегу, гривы их спутались. Люди чихали, всхрапывали кони. Внизу, у воды, был холод, острый, как страх. Анастасия натянула одеяло до подбородка. Как-то в базарный день в Северине она услыхала совиный крик. Сова-пустынница летала над городом, люди плевали ей вслед, кидали в нее шляпами, и на улицах, и на рынке, возле лавок, — везде валялись шляпы. Сова металась ошалело…
Черный Дунай бормотал, неразличимый, под окнами. Проносился птицей-невидимкой. Ночью, да, да, ночью, птиц не увидишь. Одних кошек. Зеленые глаза их светятся, как гнилушки. Они прячутся в тайниках, редко мяукают. То не их, не кошачий месяц. Вдруг ей показалось, что стены горницы медные, с прозеленью, стол словно облит серой. Она тронула его рукой; стол был будто и не ее. Потом открыла окно. Застывшие листья не шелохнулись. И листья и деревья казались железными. И двор и изгородь. А молчаливый Дунай — из ртути, мягко перекатывался, ускользал, как тень. И в нем отражалось опрокинутое беззвездное, черное, как уголь, небо. Анастасия снова легла, Эмиль уехал и умер где-то там, в дальней дали. Только имя его вернулось домой на измятой бумаге. Она, Анастасия, прожила с ним всего одно лето, лето в канун его отъезда.
Анастасия закрыла окно. Кошки мучились поносом, гадили во дворе, у двери, в доме. Повсюду. Кто был этот Ярчо Деспотович? Видеть ей его не довелось. А вот слыхать про него она слыхала. Анастасия снова задремала. По Эмилю она голосила тогда, пугая людей. Он являлся ей во сне. Сердце ее тосковало, ныло по ночам. Когда пришла похоронка, она зашлась в сухом кашле. Не обронила ни слезинки. Поняла потом. Теперь она больше не плакала. Анастасия проснулась, попила воды. Ее мучила жажда. Казалось, горело нутро. Ей не хватало воздуха, она задыхалась. Распахнула окно. Тьма поглотила все, будто ничего на свете и не было. Глаза не различали ничего. Ее будто заживо погребли в могиле. Зажгла бы она свечу — недозволено. Засветила бы лампу — запрещено. «Анастасия, надо жить, надо выйти во двор, растопить печку», — сказала она себе. «Вставай, Анастасия, иди. Во дворе легче дышится. Верно. И воздух не затхлый. Верно, верно. Надо разжечь огонь, чтобы стало тепло. Принести ведро холодной, колодезной воды. Свежей, вкусной». Но она не вышла во двор, боялась. Двери были заперты на ключ, засовы задвинуты: вечерами она пододвигала к дверям комод и стол. Захлопывала ставни на окнах. Она знала, кого боялась. Человека с гантелями. Каждое утро она видела, как он бегал босиком по траве, во дворе школы. Потом махал гантелями. Боялась его, и не только его. Ночь была вкрадчивая, как кошка. Анастасия засыпала, вспоминая, как, медленно кружась, облетал вчера с дерева сухой, мертвый лист. Лист шелковицы. Исподволь разъеденный желтизной, будто гусеницами. Смерть и к нему пришла не сразу. Послала прежде знамения. Явилась потом на готовенькое. Даже к древесному листку. Ветер трепал, колотил его. Сорвал с дерева. Сбросил наземь. Смерть сама никому не показывается, только знамения подает. И кончину насылает. Есть у смерти лик, который еще никому не открылся, не привиделся. Темный лик. Анастасия спала. И снилась ей круглая кровавая луна. Большая. Оборотной стороны луны не увидишь, цвета ее не распознаешь, может, она там и вовсе бесцветная. Луна погасла, как лампа, дымно чадя. Кто-то чихнул, не то лошадь, не то человек. По Дунаю плыли мертвецы, доносился их плач. Проплывали ее деды по отцу, по матери. Бабки, прабабки. Зыбкие воды баюкали вереницы стариков-прадедов: чем древнее был их род, тем белее волосы, слезы крупнее, круглее. Покачивались на волнах соседи, родители соседей. Плакали, сетовали: нет им пристанища, нет у них заступников. Уплывали вниз по Дунаю на своих могилах, узких полосках земли с горящими в изголовье свечами. Погребальным караваном тянулись по реке. Стремниной несло целые кладбища. Прибиться к берегу не могли. Берега расступались. Дунай ширился. Кругом стон стоял. Трепетало пламя свечей. Земля была будто и не земля вовсе, ничейная твердь, на которую не ступала нога человека, с которой не протянулась рука ближнего — остановить караван мертвецов, пригнать его к берегу. Берега рушились, а усопшим нужна земля, чтобы упокоить их, чтобы не смыло, водой не унесло могилы, чтобы не погасли свечи. И мертвые будто бы стали ничейными. И вдруг поплыла по Дунаю к низовью вместе с ними прибрежная земля, стронулся с места отчий край, на воде закачался, из виду терялся, исчезал. Анастасия закричала, чтобы остановить лодки-могилы. Закричала так, что погасли свечи все разом, утих плач мертвых, и проснулась. «Ночные сновидения, Анастасия», — сказала она себе. И снова задремала. И опять ей снились старые и свежие могилы. Ночь не уходила. Ночь будто заснула, не шевелилась, оцепенела. Словно усталая потаскуха.