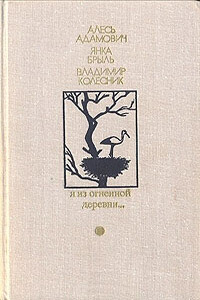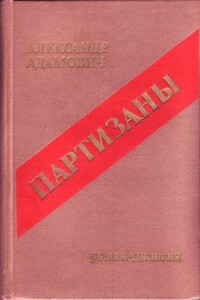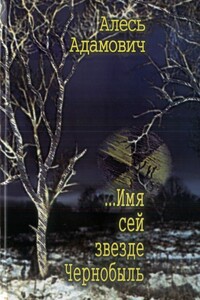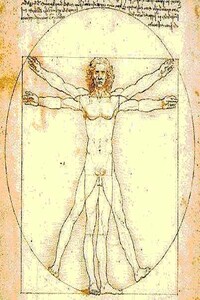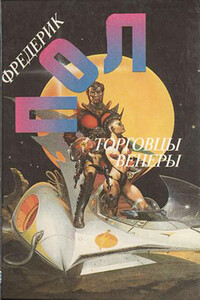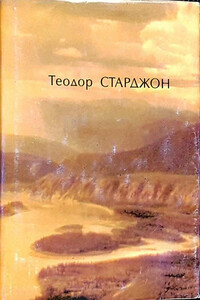Алесь АДАМОВИЧ
ИВАН МЕЛЕЖ
Удивительное произошло с белорусской прозой в конце 50-х и в 60-х годах. Самая что ни на есть традиционность зазвучала вдруг новаторски. Стали появляться романы и повести очень традиционные по материалу и стилистике («Сноха» и другие повести А. Кулаковского, «Застенок Малиновка» А. Чернышевича, «На пороге будущего» и «Городок Устронь» М. Лобана, «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» И. Мележа), которые, будучи возвращением к Коласу и Чорному, к Горецкому и Гартному, были в то же время и тем самым движением вперед, обновлением. Так они воспринимались (рядом и наряду с другими формами обновления, проявившимися в лирической и философичной прозе Я. Брыля, М. Стрельцова, И. Чигринова, романтически окрашенной — И. Шамякина и И. Науменко, морально напряженной — В. Быкова).
Что же произошло с традиционностью в нашей прозе, отчего она прозвучала столь новаторски в названных социально-бытовых и историко-бытовых романах Мележа, Кулаковского, Лобана, Чернышевича, в рассказах и очерках В. Адамчика, В. Полторан и др.?
Почему возвращение было, оказалось одновременно и тем самым движением вперед?
Да потому, что это было возвращением — широким фронтом — к самой сути литературы как искусства, и именно реалистической сути.
Нет, и в конце 40-х и начале 50-х годов появлялись произведения, которые заслуживали того, чтобы называться искусством, но при этом широко разлилась иллюстративность, «придуманность», «незаземленность» в литературе.
Казалось бы, белорусскую литературу не поразить ни погружением в быт, в повседневность, ни глушью и деревенскими глубинами Белоруссии, ни «переполохом» на крестьянских нивах и межах в годы подготовки и свершения коллективизации. Все это вроде бы уже было, и не вроде, а всерьез, глубоко, правдиво [1].
Не ново для белорусской литературы и это — масштабно-исторический взгляд на белоруса, художественно включаемого в жизнь большого мира, «цэлага свету», человечества и открываемого миру во всей определенности, густоте, полноте бытовых, психологических народных и национальных красок. И это было! [2] И не только в прозе, но и в поэтическом белорусском эпосе — Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича [3].
Но в том-то и дело, что русло литературной реки может терять достигнутую широту и глубину.
И это случилось. В произведениях вроде было все: «простые люди», село, город, человеческий труд и даже трудности, заботы, даже любовь и смерть. Но все — на ином, на совершенно ином эстетическом и идейном уровне. И на ином уровне нравственном.
Мы уже говорили о той очевидности, что после Толстого и Достоевского в мировой литературе, а в советской литературе (в том числе белорусской) после Горького, Шолохова, Твардовского, Купалы, Коласа, Чорного закрепилась своя мера правды, народности, гуманистичности, нравственно-эстетическая мера знания жизни, озабоченности «темой» и «проблемой», мера и степень «обязательности» произведения (в толстовском смысле: не пиши, если это не мучит тебя, «если можешь не писать!»).
Не станем здесь рассматривать романы и повести, в которых снижение эстетической и нравственной «меры» особенно заметно, а часто и просто одиозное, если иметь в виду, что именно такие произведения часто выдавались за образец.
Возьмем как раз одно из лучших послевоенных произведений- одного из талантливейших прозаиков — именно «Минское направление» И. Мележа.
Критика не раз отмечала значительные достоинства этого романа, находя много хорошего в нем. В опубликованном письме А. Фадеева автору «Минского направления» (тогда еще молодому, начинающему автору) оценка романа достаточно высокая. В частности, д. Фадеев заметил и отметил, что лучшие страницы романа — те, где рисуются быт, повседневность народной жизни, образы людей из народа.
И. Мележ упорно и даже упрямо дорабатывает свой первый роман, затрачено (и не безрезультатно, конечно) много усилий, творческого времени, чтобы недостатков стало меньше, а достоинств больше.
Достоинства эти: и широта взгляда на события (линия Черняховского, стремление видеть и показать всю Белоруссию, и фронт и «тыл»), и вместе с тем множество правдивых деталей, черт и черточек психологии и быта, как фронтового, так и партизанского.
Видимо, не раз еще И. Мележ — автор «Полесской хроники» — пройдется по страницам «Минского направления». И это так понятно: возросшее его чувство требовательности, ответственности за все, что написано было им, пусть даже в молодые годы. Писатель будет это делать, видимо, до самого того времени, когда герои его «Полесской хроники», пройдя через все испытания 30-х годов, «вступят в войну», станут кто командиром или красноармейцем, кто окруженцем, кто партизаном, а кто и полицаем или старостой... И тогда, может быть, до конца ясно сделается, что есть вещи, которые пишутся лишь заново, потому что в основе каждого произведения — определенная эстетическая система. И, лишь меняя саму основу, «фундамент», возможно добиться иной «эстетической этажности» художественного здания. Бывает, что, сколько ни улучшай произведение на старой основе, качественного скачка не произойдет (хотя многое и станет лучше), того скачка, который произошел у П. Нилина в «Жестокости», написанной заново, хотя похожая повесть у него уже была. Но тут именно заново — все, и основа — тоже! Это как в физике: новый элемент рождается лишь при воздействии на атомную структуру. Воздействовать на «молекулярном уровне» — недостаточно.