Иван Мележ - [5]
Литература, к которой примыкают и мележевские полесские романы, в народе и народной жизни ищет (притом мучительно, всерьез) ответы на злободневные идеи. Ведь там, в практике народной жизни, все это проверялось и проверяется — истинность или неистинность любых мыслей, идей, целей, средств. Нравственная выверенность чувства, взгляда, отношения к жизни, человеку для этой литературы и этих писателей имеет особенное, принципиальное и эстетическое значение. В этом смысле она по-новому перекликается с великой традицией русской классики (и белорусской тоже), в которой такая выверенность, напряженность нравственного чувства граничила с чувством личной вины за все боли и горести народные и человечества. Да, многое в жизни изменилось, но планета для счастья оборудуется все еще трудно, через великие потери, тревоги, опасности, промахи, возвращения назад. Большая литература считала долгом «брать на себя» не только радости побед человеческих, но и горести утрат, неудач, поражений. С таким чувством писали великие Толстой, Достоевский, Чехов, но именно потому они и великие и потому они — настоящая литература.
Интересно это совершается в литературе: движение вперед через видимость как бы возвращения к прежнему. Это напоминает сильную накатывающуюся волну у морского берега: в ней два одновременных движения — несущее вперед и влекущее назад, в море...
Но такое движение — вперед с одновременным возвращением назад, в «море» великой литературной традиции,— есть, может быть, сама форма существования искусства, которое, чтобы не повторяться, не омертветь, должно все время искать, уходить вперед от самого себя, но и возвращается с такой же неизбежностью — к той пограничной черте, где искусство не то начинается, не то кончается. А «за черту» выносится гниющий мусор ложных попыток, ходов, заблуждений — все, что так и не стало искусством.
Вот с таким чувством новизны и одновременно «возвращения» читали мы и «Людей на болоте».
Но в романе этом есть и в буквальном смысле возвращение к уже знакомому нам по белорусской литературе 20 — 30-х годов. Роман И. Мележа не принадлежит к числу книг, резко бросающих литературу в неведомое, в неизведанное. Мы с того и начали наш разговор, что роман традиционен, но что сама традиционность вдруг повернулась для литературы новизной: открытием, развитием, движением вперед.
Значит, что-то в этой традиции недооценивалось, не использовалось в достаточной мере, не развивалось.
Без большого труда в романах И. Мележа (прежде всего в «Людях на болоте») можно найти «следы присутствия» и Коласа, и Чорного, и Гартного.
В иных местах (начало романа) — это «настройка», поиск верного тона, интонации, и «камертоном» служит то Колас, то Чорный...
«Кто она такая, эта задавака, чтоб с ним обходиться, словно бы не только ровня ему, а бог знает что? Была она и правда какая особенная, тогда и терпеть можно было б, а то ж кто — всего-навсего отцова дочка. И так обходиться с ним. С человеком самостоятельным, хозяином! Что ж, он покажет ей!..» [6]
Ну, а это уже не с Коласом, а с Чорным созвучно:
«С каждой минутой Курени все больше полнились людскими голосами, движением — на одном дворе мать звала сына, на другом плакал, заливаясь слезами, не вовремя разбуженный ребенок. Во двор возле липы мужчина вводил коня, со двора напротив выгоняли поросят, и шло за ним покорное замурзанное дитя, по-стариковски ссутулив спину...»
Прочитываем первые страницы и ощущаем, что «настройка» проведена и уже найдена своя интонация, но и Колас, и Чорный, а где-то и Гартный не уходят совсем. Только Мележ уже не ученик, ищущий с их помощью нужную ему интонацию, тон, а художник-соперник, не боящийся строить «свою гать», хотя было про это уже у Коласа, не пугающийся даже прямых перекличек образов: Ганны, например, с Зосей из «Батьковой воли» Гартного, а Василя Дятла с Михалкой (Михалом) Творицким из «Третьего поколения» Чорного. И делается это не от одной только уверенности в силе своего таланта и в своем особенном знании особенного все-таки, хотя и близкого, жизненного материала. Это диктуется еще и определенным чувством, идущим от самого времени. Что это за чувство, объясним лучше на примере одной из линий романа, сопоставляя ее с чорновской.
Да, кое в чем его время порой ограничивало даже большой талант К. Чорного, диктуя ему готовые, однозначные художественные решения. Вот хотя бы та ситуация в «Третьем поколении», когда Михал Творицкий присвоил найденные им банковские деньги и тем самым, объективно, помог бандитам. К. Чорный всем произведением показывает, что поступок его — не случайность, а результат всей жизни, горького жизненного опыта бывшего батрака-пастушка, отравленного страхом перед завтрашним «черным» днем, вобравшего в себя на скуратовическом хуторе «философию» того мира, где человек человеку был волком. Это беда его. Но и вина: ведь Зося, жена его, через такое же прошла, а совсем по-другому думает и поступает!
И вот — суд. Не только юридический, но и философский суд, не только над Творицким, но и над тем собственничеством, которое прячется, может скрываться и в душе человека, одетого в бедняцкое рванье, в уголке души крестьянина-трудяги. Как говорит прокурор Кондрат Назаревский: «Под нею (забитостью) прячется хитрость загребущего мужичка так же, как он сам прячется под свою вонючую одежду». Многое, и прежде всего свою гуманистическую ненависть к уродующей человека силе собственничества, отдал Назаревскому — оратору и обвинителю — автор. Но ведь что получилось из этой речи: философские аргументы тоже легли на чисто юридическую чашу вины Творицкого, и вот уже из уст Назаревского раздается грозное, страшное по тем временам обобщение, нарушающее, как стали говорить четверть века спустя, социалистическую законность: «Это правда, что он (Творицкий) из народа, но стал отщепенцем и в таком качестве врагом народа». Да, Творицкий виновен, но не за все же грехи, тысячелетние, собственничества: а именно так, расширительно в конце концов формулируется его преступление Кондратом Назаревским.
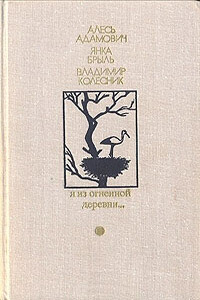
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.

Видя развал многонациональной страны, слушая нацистские вопли «своих» подонков и расистов, переживая, сопереживая с другими, Алесь Адамович вспомнил реальную историю белорусской девочки и молодого немецкого солдата — из минувшей большой войны, из времен фашистского озверения целых стран и континентов…
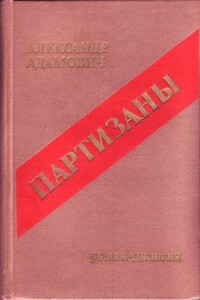
«…А тут германец этот. Старик столько перемен всяких видел, что и новую беду не считал непоправимой. Ну пришел немец, побудет, а потом его выгонят. Так всегда было. На это русская армия есть. Но молодым не терпится. Старик мало видит, но много понимает. Не хотят старику говорить, ну и ладно. Но ему молодых жалко. Ему уж все равно, а молодым бы жить да жить, когда вся эта каша перекипит. А теперь вот им надо в лес бежать, спасаться. А какое там спасение? На муки, на смерть идут.Навстречу идет Владик, фельдшер. Он тоже молодой, ихний.– Куда это вы, дедушка?Полнясь жалостью ко внукам, страхом за них, с тоской думая о неуютном морозном лесе, старик проговорил в отчаянии:– Ды гэта ж мы, Владичек, у партизаны идем…».

В книгу Алеся Адамовича вошли два произведения — «Хатынская повесть» и «Каратели», написанные на документальном материале. «Каратели» — художественно-публицистическое повествование о звериной сущности философии фашизма. В центре событий — кровавые действия батальона гитлеровского карателя Дерливангера на территории временно оккупированной Белоруссии.
![Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/storage/book-covers/31/318351eec2b394cdc28b6d2c9da3f3ce57feba5d.jpg)
Очередной 21-й выпуск сборника «Пути в незнаемое» содержит очерки, рассказывающие о современном поиске в разных сферах научной деятельности — экономике, космических исследованиях, физике, океанографии, землеведении, медицине, археологии, истории, литературоведении, астрономии. Авторы очерков — профессиональные писатели, занимающиеся наукой, и профессиональные ученые, ставшие писателями. (Издано в 1988 г.)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
