Иван Мележ - [4]
«...Если человек заражает другого и других прямо непосредственно своим видом или производимыми им звуками в ту самую минуту, как он испытывает чувство, заставляет другого человека зевать, когда ему самому зевается, или смеяться, или плакать, когда сам чему-то смеется или плачет, или страдать, когда сам страдает, то это еще не есть искусство.
Искусство начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям раз испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его».
Искусство начинается именно с этого — из потребности и стремления в слове, звуком, линией, краской, пластикой тела и т. д. воспроизвести, повторить, вспомнить, как было радостно или горько, смешно или больно... Тебе. Или кому-то, кем ты себя представил. Как ни важно для писателя самому, на себе познать побольше, пережив, почувствовав, поняв через себя состояние других, тем не менее определяет все не «количество», а «качество», то, что мы называем талантом,— это значит природная (и развитая опытом) способность к сопереживанию (ну и, конечно, нравственное содержание того, что повторено в образе, переживается или сопереживается). Мы здесь подчеркнуто ставим на один уровень и «бывшее со мной» и «бывшее с другими» не потому, что недооцениваем значение для искусства лично пережитого. Но тут мы касаемся того, что лежит на глубине, что есть сама природа таланта писательского. Художник наделен и должен быть наделен обостренной способностью не только то, что было с ним самим, пережить повторно, но и то, что с другими было. И так пережить (сопережить), чтобы заразить читателя, зрителя чувствами этого «другого». «Чужое» становится его собственным, а порой сопереживание это даже сильнее, острее, чем лично пережитое: например, когда он будет показывать муки ребенка на войне, матери и т. д. Так что «чужое» художник к себе приближает в творческом акте. Свое же, лично пережитое, наоборот, отодвигает, как бы объективизирует: это было со мной, но и с кем-то, кем я был в тот момент (а тогда я был чуть-чуть иной), это происходит с «образом», в какой я отливаю свое переживание, а еще — с миром, с обществом, с человечеством, крупицей которого образ этот все-таки является... Обобщение, типизация обнаруживается, таким образом, уже в самом первоначальном чувстве, из которого творческий акт рождается: в сопереживании, в повторном чувстве-воспоминании.
И интересно, что лично пережитое, объективируясь, отодвигаясь, часто не мельчится, а как раз укрупняется и тем самым как бы надвигается: как укрупняются и надвигаются на тебя предметы в редеющем тумане (существует такой оптический эффект).
Так что в искусстве чрезвычайно важно это: сила, степень повторного переживания или сопереживания, иными словами, воспоминания о своем чувстве или чувстве другого (других), восстанавливаемого как свое собственное. Без присутствия такого «воспоминания» нет самого искусства, во всяком случае — литературы. Это надо бы иметь в виду критике, которая, ратуя за современность в литературе, часто видит какую-то непроходимую стену между тем, что есть «день сегодняшний», и что — «день вчерашний». А ведь и день сегодняшний в книгах воспроизводится по тем же законам психологии творчества — как воспоминание. И если такое «воспоминание» о дне бегущем еще не стало достаточно личным, острым, если оно и смутно, и смазано в некоторых романах «на современную тему», а события 20 — 30-х годов в других романах надвигаются на нас крупно, реально (как из того «редеющего тумана»), то явления, вещи меняются местами в литературе, нравится нам это или нет. Люди, персонажи, герои таких романов, как мележевский, становятся рядом с нами, мы их чувствуем рядом или среди них, они есть.
Конечно, такой эстетический эффект, как с романами Мележа, возникает, возможен лишь в том случае, если в сопереживании, если в «воспоминании» затронут самый широкий диапазон чувств, в том числе и общественных, гражданственных.
Романы Мележа, повествующие о жизни чуть ли не полустолетней давности, сразу восприняты были нами как то, что нужно сейчас, что ожидалось. Восприняты они были с какой-то радостью всеобщего читательского соавторства. Будто и задумано было сообща.
Да, судьба этих книг Мележа складывалась счастливо. Не всегда время своего «ребенка» встречает ласково, радостно. А тут встретило, признало. Ждало.
В «Полесской хронике» И. Мележа выразились тенденции, характерные для всей советской литературы последних лет. Что отличает «деревенскую прозу» Залыгина, Друцэ, Абрамова, Айтматова, Белова, Шукшина, так это подчеркнутый интерес к народной жизни, но интерес, так сказать, «бескорыстный». В эстетическом смысле бескорыстный.
Есть у нас немало произведений, в которых рассказывается словно бы о народной жизни, но «народ» служит их авторам лишь в качестве материала для иллюстрации какой-либо «идеи». И даже в том случае, если идея декларирует всяческое уважение и поклонение его величеству рабочему человеку, все равно в эстетическом плане «его величество» своего лица, самостоятельного значения не имеет, а лишь обслуживает авторскую мысль. Живую жизнь, его проблемы, человеческие заботы в такой литературе искать напрасное занятие.
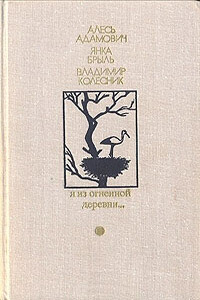
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.
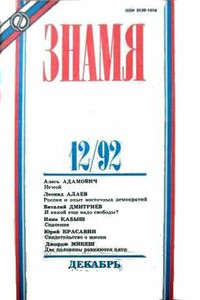
Видя развал многонациональной страны, слушая нацистские вопли «своих» подонков и расистов, переживая, сопереживая с другими, Алесь Адамович вспомнил реальную историю белорусской девочки и молодого немецкого солдата — из минувшей большой войны, из времен фашистского озверения целых стран и континентов…
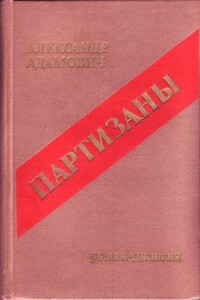
«…А тут германец этот. Старик столько перемен всяких видел, что и новую беду не считал непоправимой. Ну пришел немец, побудет, а потом его выгонят. Так всегда было. На это русская армия есть. Но молодым не терпится. Старик мало видит, но много понимает. Не хотят старику говорить, ну и ладно. Но ему молодых жалко. Ему уж все равно, а молодым бы жить да жить, когда вся эта каша перекипит. А теперь вот им надо в лес бежать, спасаться. А какое там спасение? На муки, на смерть идут.Навстречу идет Владик, фельдшер. Он тоже молодой, ихний.– Куда это вы, дедушка?Полнясь жалостью ко внукам, страхом за них, с тоской думая о неуютном морозном лесе, старик проговорил в отчаянии:– Ды гэта ж мы, Владичек, у партизаны идем…».
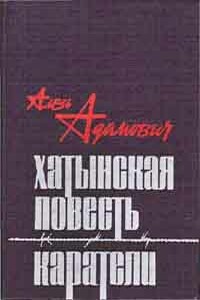
В книгу Алеся Адамовича вошли два произведения — «Хатынская повесть» и «Каратели», написанные на документальном материале. «Каратели» — художественно-публицистическое повествование о звериной сущности философии фашизма. В центре событий — кровавые действия батальона гитлеровского карателя Дерливангера на территории временно оккупированной Белоруссии.
![Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/storage/book-covers/31/318351eec2b394cdc28b6d2c9da3f3ce57feba5d.jpg)
Очередной 21-й выпуск сборника «Пути в незнаемое» содержит очерки, рассказывающие о современном поиске в разных сферах научной деятельности — экономике, космических исследованиях, физике, океанографии, землеведении, медицине, археологии, истории, литературоведении, астрономии. Авторы очерков — профессиональные писатели, занимающиеся наукой, и профессиональные ученые, ставшие писателями. (Издано в 1988 г.)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
