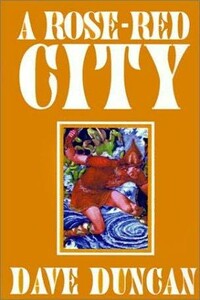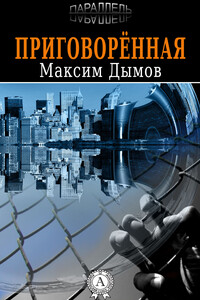Дмитрий Крафт
История одной недописанной книги
«Когда Сутоке исполнилось двенадцать, и он принял из рук Мастера шапку Ученика, пророк Мафусаил повёл его в торговый центр. Ничего не евши, натощак, они вступили на отполированный слугами пол в роящейся гуще людей. Сутока никогда не видел столько людей. В революционной ячейке при монастыре, где он жил и учился все свои двенадцать лет жизни, многолюдье бывалотолько на Пасху да на 9-ое мая, но не такое бурное. «Видишь то, что не видят другие?» — спросил Мафусаил, глядя ему строго в глаза, будто и не было всех этих людей вокруг. Сутока не видел. Тогда пророк повёл его дальше, по местам скопления масс, то есть по бутикам и кофейным аппаратам. И это зрелище Сутоке было в диковинку. Он двенадцать лет ел в одно и то же время, в одном и том же месте, с одними и теми же людьми. «Еде своё время, стрельбе своё стремя», — любил повторять есаул Панюшкин, он же комиссар запаса. Мафусаил толкнул оцепеневшегоСутоку в бок. «Видишь?». Тот качал головой, и пророк снова вёл его. В главный зал.
В главном зале купцы из Азии разложили ковры и чайники, юбки и благовония, сплетённые узлы дешёвой бижутерии и зеркала в позолоченной оправе. Их смуглые лица перемешивались с дурным кофейным запахом. Из допотопных колонок бренчала музыка, вгоняющая в транс. Сутока немного переживал, что ему начнут мерещиться индийские боги, но пока он видел только алчные глаза. Обыкновенные, ежедневные с тех пор, как Империя развалилась, а из южных феодальных княжеств с каждым летом приезжает всё больше бывших подданных Красной Короны.
— Смотри же, неразумный отрок, смотри! — рявкнул Мафусаил, воздев посох вверх.
Сутокавзлетел вслед за крючком, вперившись взглядом в огромную стену, нависшую над сценой, будто нахмуренная туча. На стенелепниной забытый всем миром автор изобразил, как человек в рабочем комбинезоне мощными руками устанавливает круглую колонну. Лучи восходящего солнца вынимают из тумана начинающееся строительство, музы играют на арфах, а серп и молот, хоть и подтёрты, но ясно висят в небесах.
— Храм! — воскликнул Сутока. — Мастер, здесь раньше был храм!
— А теперь базар, — кивнул Мафусаил, — но не здесь, а по всей великой Империи. Надо только всегда ходить с открытыми глазами, и тогда ты всё увидишь сам.
— Но Мастер… такое место, как храм… оно не должно лежать в руинах!
Сутока впервые говорил с Мафусаилом. Обычно он только слушал или отвечал на вопросы, и теперь дрожал, как небоскрёб при землетрясении.
— Не должно. И не будет. Мы живём, учимся, сражаемся ради того дня, когда, взяв в руки кнут, в храм придёт Революция и выгонит торгашей вон! И эта картина, — Мафусаил схватил ученика за руку и резко притянул к себе, заставив смотреть вверх, — эта картина воплотится в жизнь. Ибо сознание первично».
Диана резким движением отложила текстовик, на который так долго жаловалась, и прыгнула Андрею чуть ли не на грудь:
— Adorablemente[1]! Андреас, это потрясающе!
Андрей никогда ей этого не говорил, но ему нравился её буйный нрав, порывистый ветер настроения, когда Диана могла заливисто смеяться, отплясывая в обнимку с шёлковым платьем, а спустя минуту глядеть в накатывающие волны Атлантического океана глазами, полными слёз. Казалось, всего мгновение назад она сердилась, что советские учёные выдумывают разные непонятные ей штуки вроде текстовика — пластичного листа из фибромассы с технологией виртуальных чернил. А теперь скакала на Андрее, маленькими кулачками стуча в курчавую грудь.
— Не могли, не могли тебя выдворить из твоей страны за такую хорошую книгу! — её тёмные, немножко спутанные волосы ходили вверх-вниз. — Ты обманываешь меня, Андреас, как всегда!
— Mi tesoro[2], ты так хорошо говоришь на русском койне[3], но заставляешь меня повторять одни и те же вещи, — мягко ответил он, потрепав её за упругий сосок груди, — меня не выдворили из СССР, я сам решил сюда уехать.
— Но зачем?
— Затем, чтобы написать хорошую книгу о жизни кубинского народа, угнетённого американской контрреволюцией, об армии Флориды, охраняющей режим Бальтазара Фронде…
— Эта книга лучше всех других! — Диана вскочила с кровати, держа высоко над головой текстовик, будто привычное ей бумажноеиздание. — Я не понимаю, как ты мог написать её в России…
— Я писал её в Лиссабоне.
— Всё равно! — она хищно фыркнула. — Ты писал в Лиссабоне про Кубу. Все эти разрушенные храмы, сгоревшие стройки, всё это про нас. Когда я была маленькая, и был жив мой padre[4], мы больше всего любили гулять по площади Революции. Я смотрела на команданте, на Хосе Марти, на Сьенфуэгоса… Как сейчас смотрю на тебя. Мне больше ничего не надо.
Андрей улыбнулся и потянулся к обнажённой девушке, которая вдруг выставили злосчастный текстовик перед собой, как щит, и заверещала:
— Кроме, кроме… твоей книги, ха-ха! — Андрей успел схватить только воздух. — Пока не дочитаю до конца — ни-ни!
— Но-но! — он вспрыгнул с кровати, словно тигр, выследивший добычу, и свалил хохочущую девушку в постель.
«Монастырь поздней осенью казался не столько зловещим, сколько пустым. Поэтому беглец, замотанный с головой в разноцветные тряпки, решил сюда зайти. Как это ни странно, дверь легко поддалась, хотя и была двухметровой дубовой преградой. Внутри беглеца быстро подхватили под руки и поволокли по длинному коридору двое стражей. Он испугался, но вскрикнул всего один раз.